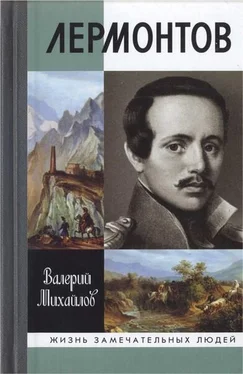Любовь Гамлета и Офелии слишком элегична, почти бескровна; любовь Отелло и Дездемоны, напротив, слишком чувственна. Фауст любит Маргариту не совсем по-юношески-неподдельного экстаза, захватывающего сердце девушки, у него нет; Мефистофелю пришлось подсунуть ему бриллианты для подарка Маргарите — истинно стариковский соблазн. Да, Фауст любит, как подмоложенный старик. Здесь не любовь, а продажа невинности старику. Между тем первая любовь есть состояние такое шалое, мечтательное, она сопровождается таким расцветом фантазии, что пара фантастическая потому именно и лучше, пышнее, ярче вбирает в себя все элементы этой зарождающейся любви.
Обе фигуры у Лермонтова воплощены в самые благородные и подходящие формы. Мужчина всегда первый обольщает невинность, он клянётся, обещает, сулит золотые горы; он пленяет энергиею, могуществом, умом, широтой замыслов — демон, совершенный демон! И кому из отроковиц не грезится именно такой возлюбленный? — Девушка пленительна своей чистотой. Здесь чистота ещё повышена ореолом святости; не просто девственница, а больше — схимница, обещанная Богу, хранимая ангелом…
Понятно, какой эффект получается в результате. Взаимное притяжение растёт неодолимо, идёт чудная музыка возрастающих страстных аккордов с обеих сторон — и что же затем? Затем обладание — и смерть любви…
Ангел уносит Тамару, но, конечно, только ту Тамару, которая была до прикосновения к ней Демона, невинную, — тот образ, к которому раз дотронешься — его нет уже, то видение, которое „не создано для мира“, — и перегоревший мечтатель „с хладом от неподвижного лица“ остаётся обманутым — „один, как прежде, во вселенной“…»
Метафизический бунт
Сохранилось одно воспоминание о том, что сказал сам Лермонтов о «Демоне». Аким Шан-Гирей, его товарищ, друг и помощник, был по натуре простая и добрая душа. Он свидетельствует, что с Лермонтовым «в последнее время» они часто говорили о поэме, — по-видимому, эти разговоры относятся ко времени создания шестой редакции (сентябрь 1838 года) или же к следующим годам. Увы, мемуарист приводит всего одну реплику поэта, зато подробно знакомит читателя со своим собственным мнением. С непринуждённостью светского человека и прямотой артиллерийского офицера он пишет:
«Мне всегда казалось, что „Демон“ похож на оперу с очаровательнейшею музыкой и пустейшим либретто. В опере это извиняется, но в поэме не так. Дельный критик может и должен спросить поэта, в особенности такого, как Лермонтов: „Какая цель твоей поэмы, какая в ней идея?“ В „Демоне“ видна одна цель — написать несколько прекрасных стихов и нарисовать несколько прелестных картин дивной кавказской природы; это хорошо, но мало…»
Ну, что ж, мягко говоря: забавно.
Простодушный родственник даже предложил Лермонтову «другой план» поэмы: отнять у Демона всякую идею о раскаянии и возрождении. «План твой, — отвечал Лермонтов, — недурён, только сильно смахивает на „Сестру ангелов“ Альфреда де Виньи. Впрочем, об этом можно подумать. Демона мы печатать погодим, оставь его пока у себя».
«Вот почему поэма „Демон“, уже одобренная Цензурным комитетом, осталась при жизни Лермонтова ненапечатанною. Не сомневаюсь, что только смерть помешала ему привести любимое дитя своего воображения в вид, достойный своего таланта».
Всё это воспоминание весьма наивно, благо, в добросовестности мемуариста сомневаться не приходится. Да вот почём ему знать, что такое поэтическое творчество? Дело тёмное, таинственное… — и Лермонтов отвечает добродушно, но что у него на уме — бог весть!.. Созерцать мироздание в полёте всевластного бесплотного духа, улавливать тончайшую земную и неземную музыку, прожигать сердце «тяжёлою слезою» томящегося могучего существа — и получать пошлые советы от славного братишки, на которого он, разумеется, и сердиться-то не мог!.. Вот удел, достойный гения.
Виссарион Белинский, литературный критик, читавший поэму в списках (но почему-то, в отличие от других произведений, не разобравший её), заметил: «Демон не пугал Лермонтова: он был его певцом». (Как же, напугаешь небо ветром; а вот кто кого был певцом — по смыслу неясно.)
Белинский обменивался письмами с другим знатоком литературы, Василием Боткиным, и «был солидарен» с таким выдающимся умозаключением этого ценителя словесности: «Да, пафос его, как ты справедливо говоришь, есть „с небом гордая вражда“. Другими словами, отрицание духа и миросозерцания, выработанного средними веками, или, ещё другими словами — пребывающего общественного устройства». Однако какое дело небу до Средних веков или тем более — до «общественного устройства»? Боткин же переводит всё: и космос и мистику — на доступный его пониманию лад. Но что он способен разглядеть в безднах Лермонтова — под этим своим социологическим уголком зрения…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу