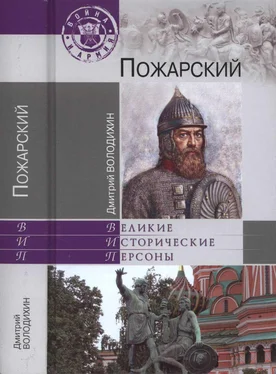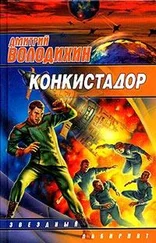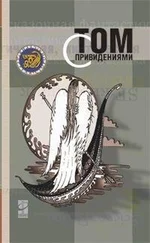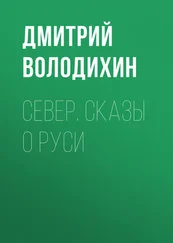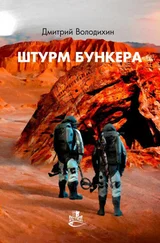И в этом случае поведение князя Пожарского достойно почтительной памяти, но не содержит ничего необычного.
Платил нескольким храмам «ругу» — постоянное денежное довольствие?
Да не он один… Всякий богатый человек мог взять на себя это дело.
Роздал по завещание целое состояние храмам и монастырям? Сотни рублей, стадо лошадей, огромное количество серебряной утвари, дорогого платья рассыпал Дмитрий Михайлович по всей стране — от Зарайска до Соловков, от Ярославля до Новгорода Великого.
В порядке вещей. Так поступали нередко.
Из того, как поступал Дмитрий Михайлович, видно: он добрый христианин, весьма благочестивый человек, соответствующий своему времени и своему месту в обществе. Но ничего неординарного.
А вот роль, сыгранную Пожарским в прославлении Казанского образа Пречистой Богородицы, обычной назвать невозможно. Здесь его служение Церкви поднимается до невиданных высот. Здесь он становится ближе к Богу, чем его современники-аристократы.
Чудотворный Казанский образ Божией матери доставили к воеводам Первого земского ополчения. Под Москвой он прославился: ратники Трубецкого и Заруцкого не сомневались, что при взятии Новодевичьего монастыря через икону им оказана была помощь сил небесных. Покинув Москву, протопоп с иконою добрался до Ярославля, где встретился с земцами Пожарского и Минина. Вожди Второго ополчения также крепко уверовали в ее особенную святость. Икону поставили для публичного поклонения, списали с нее копию («список») и, возможно, не один. Вскоре оригинал вернулся к казанцам. Ну а список с него последовал к Москве. «Ратные же люди начали великую веру держать к образу Пречистой Богородицы, и многие чудеса от того образа были. Во время боя с гетманом и в московское взятие многие же чудеса были» [407] Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 14. СПб., 1910. С. 132.
.
На исходе 1612 года, после освобождения Кремля, Пожарский «…освятил храм в своем приходе Введения Пречистой Богородицы на Устретинской улице, и ту икону Пречистой Богородицы Казанской поставил тут». [408] Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 14. СПб., 1910. С. 132.
Очевидно, речь идет о Казанском приделе Введенского храма, устроенном на деньги полководца. Здесь чудотворный образ находился до 1632 года, затем ненадолго переехал в Китайгородский Введенский Златоверхий храм, откуда пришел в деревянный Казанский храм (о нем речь пойдет ниже) [409] Павлович Г. А. Казанская икона Богородицы и Казанский собор на Красной площади в Москве // Культура средневековой Москвы XIV–XIV-вв. М., 1995. С. 228.
.
Молодой царь Михаил Федорович и особенно его отец Филарет Никитич увидели в иконе великую святыню. Властвование их династии возникло из земского освободительного движения, словно цветок из бутона. А образ Казанской являлся зримым воплощением Божьего покровительства земскому делу. Казанскую икону Божией матери прославили еще в XVI веке, но это был неяркий свет. Лишь при первых государях из рода Романовых она приобрела сияние, разливавшееся по всей стране.
Государь Михаил Федорович, его мать, инокиня Марфа, а затем и патриарх Филарет окружили чудотворный образ из Введенского храма невиданным почитанием. Дважды в год в ее честь устраивались крестные ходы: 8 июля — в память о просдавлении ее в Казани, а также 22 октября (на память святого Аверкия Иерапольского). Второй крестный ход прочно связывал освобождение Китай-города в 1612 году с покровительством Богородицы земскому воинству.
В конце 1624-го — середине 1625 года «…тот же образ по повелению государя царя и великого князя Михаила Федоровича всея Русии и по благословению великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича московского и всея Русии украсил многой утварью боярин князь Дмитрий Михайлович Пожарский по обету своему». [410] Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 14. СПб., 1910. С. 133.
Долгое время с именем князя Д. М. Пожарского связывали создание Казанского собора на Красной площади, разрушенного в 1936-м и восстановленного в 90-х годах XX столетия. Строку из летописи об «украшении» образа «многой утварью… по обету» воспринимали как сообщение о строительстве этой церкви. Однако документы говорят о другом: каменное здание в начале Никольской улицы — там, где она втекает в Красную площадь, — строилось, вероятнее всего, на казенные средства и по инициативе «двух государей»: царя Михаила Федоровича и патриарха Филарета Никитича. Работы завершились осенью 1636 года. Причастность Д. М. Пожарского к его возведению, какие-либо пожертвования или иные знаки участия князя в судьбе Казанского собора нигде не зафиксированы. Нет их ни в государственных, ни в церковных бумагах, ни даже в завещании Дмитрия Михайловича. [411] Павлович Г. А. Казанская икона Богородицы и Казанский собор на Красной площади в Москве // Культура средневековой Москвы XIV–XVII вв. М., 1995. С. 229–232.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу