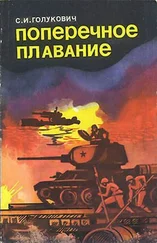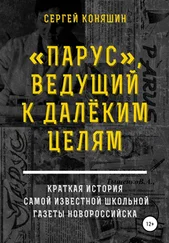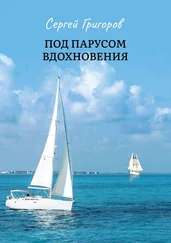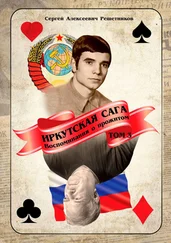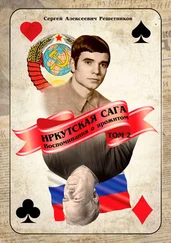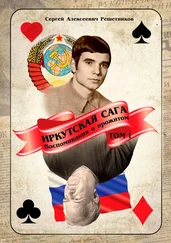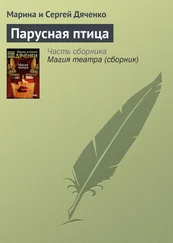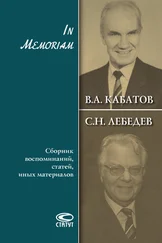Запомним: нас воспитала счастливая наследственность в сочетании с драматизмом революционной эпохи. Достаточно вспомнить, что за время гражданской войны и интервенции на наших глазах власть менялась восемнадцать раз, но это только укрепляло в нас чувство ответственности за общие судьбы революции. В этом я вижу первопричину удивительного явления.
Как хотите, а все-таки это удивительно: Эдуард Багрицкий, Исаак Бабель, Илья Ильф с его неизменным другом Евгением
Петровым, Юрий Олеша, Валентин Катаев, Константин Паустовский, который всегда охотно относил себя к этой ветви, Лев Славин, Семен Кирсанов, Семен Гехт, Вера Инбер, Семен Липкин, Зинаида Шишова, Маргарита Алигер, Аделина Адалис… Эти имена знает каждый читающий человек. И все они — имена наших близких товарищей, друзей, сверстников или просто свидетелей нашей общей славной молодости. А ведь к этим наиболее и бесспорно известным именам легко прибавить вдвое больше писателей, поэтов, драматургов, музыкантов, актеров все той же ветви, по достоинству занявших свое место в литературе, театре и музыке. Разве это явление заурядное?
Сей дуб зеленеет для всех, для каждого, кто ищет красоту и утешение на любых берегах, у любого лукоморья. Скажите, на каком языке думают и говорят герои сказок? Звенья златой цепи позванивают на языке, общем для всех, помогая ученому коту говорить и петь. Ведь это счастье: знать чудодейственную силу поэзии, преемственность чувств и мыслей…
А вдруг не так? Когда я бываю здесь теперь, всякий раз чувствую, что что-то важное нарушено, не всегда заметно внимание к волшебной преемственности.
Не безразлично — появится ли вновь поэма, равноценная «Думе про Опанаса» именно там, где подготовлены для этого и культура стиха и верное чувство поэзии, где знавали высокие образцы. Не безразлично — будет ли книга новых «Одесских» рассказов нового автора достойна сопоставления с книгой Бабеля об экзотической Одессе.
В наши дни еще не прогуливались запросто по Дерибасовской гарпунеры китобойных флотилий, а все-таки было немало интересного.
Уже трудно найти свидетелей «литературной Одессы 20-х годов», участников бурных незабываемых чтений в аудиториях университета, в мастерских художников, в опустошенных квартирах, принадлежавших сбежавшим богачам. Ищу и не нахожу участников безудержных поэтических бдений, прогулок на рассвете с чтением стихов — через весь город из клуба железнодорожников на Молдаванке, где вокруг старшего товарища Эдуарда Багрицкого группировалась демократическая молодежь кружка «Потоки»… А хотите — расскажу о том, что было еще до «Потоков»? Было пемало любопытного. Вот, например, история о том, как в «Мебосе» (кафе «Меблированный остров») инсценировалась драматическая поэма Багрицкого «Харчевня». Поэма теперь утеряна, и восстановить ее не удается. Тем более кстати о ней вспомнить.
Содержание поэмы таково. Старая Англия. В придорожпой харчевне останавливаются двое проезжих. Молодые люди требовательны и надменны. Престарелый хозяин старается им угодить. Из диалога проезжих выясняется, что они спешат в Лондон на соревнование поэтов. Они читают друг другу свои стихи, когда вдруг из-за стойки раздается голос трактирщика.
— Стихи нехороши!
Поэты недоуменно оборачиваются на возглас.
— Стихи нехороши, — повторяет трактирщик и со знанием дела объясняет, почему стихи нехороши. Проезжие заинтересованы, прислушиваются к странному трактирщику, а тот с такою же убедительностью читает им стихотворение «Ода бифштексу». Вот как, вот о чем надо писать.
Превосходно!
Стихи трактирщика побеждают. И тут, присматриваясь к нему, гости узнают в трактирщике когда-то популярного поэта, удалившегося на покой. Молодые поэты восторженно приветствуют его, убеждают ехать вместе с ними: его ждут друзья, прежняя слава. Но поэт, записывающий свои стихи в счетную книгу рядом с расходами, ехать отказывается: здесь, у очага трактира, он успокоился. Здесь его место, и он не променяет закопченные стены харчевни на суетный Лондон.
Рожок дилижанса — и гости с сожалением прощаются с поэтом-трактирщиком.
Для большей живости к поэме присочинили несколько песенок. Девушки притащили шарфы, трости, шляпы.
Хозяина харчевни изображал сам Багрицкий, проезжих поэтов — хмурый Лева Славин и застенчивый Илья Файнзиль-берг — Ильф. Всем раскрасили носы, Багрицкому приклеили седые бакенбарды. За столиками между посетителями «Мебоса», людьми привыкшими к шалостям муз, расселись солдаты, извозчики, девушки, почтальоны. Ужин, отпускавшийся предпринимателем «Мебоса» автору и исполнителям инсценировки, зарабатывался добросовестно. Всегда готовый к какой-нибудь выходке, Багрицкий на этот раз держался солидно. Войдя в роль, он воодушевленно читал стихи поэмы. Вот наступил момент его реплики.
Читать дальше