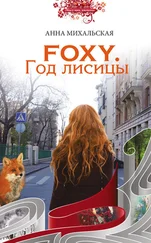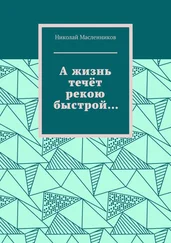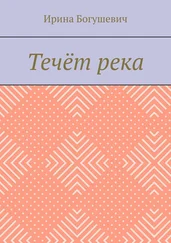Возможно, моя самая первая фотография. С бабушкой Екатериной Ильиничной Сыромятниковой.
Сызрань, 1926 г.
В самых общих чертах об этом можно сказать так. Жизнь в Москве определялась нашим семейным укладом, интересами родителей и их постоянным стремлением содействовать моему образованию, приобщению ко всему тому, что могла дать Москва с её музеями, театрами, с её интересными улицами, памятниками, старыми и новыми зданиями. И хотя времени у родителей почти никогда не было, они всегда старались использовать каждую возможность что-то увидеть, куда-то пойти. Покупали книги, хотя отнюдь не все успевали прочитывать. Выписывали несколько газет и журналов, хотя о политике при мне не говорили. Отец по радио изучал французский и немецкий язык, выписывал и исправно получал тома энциклопедии, собрания сочинений классиков. Мама целыми пачками приносила домой театральные билеты на самые разные спектакли, клала их на полочку и потом в течение каждого месяца они с отцом, а позднее и со мной ходили и в Большой, и в Малый театры, и во МХАТ, и в Камерный, и в другие. Любили Вахтанговский театр. А какие разные книги появлялись у нас! И Диккенс, и Фрейд, и пьесы Островского, и «Фальшивомонетчик» Андре Жида, и множество других книг, выходивших в то время.
Учиться на первых порах меня отдали в частную группу известного методиста Марии Николаевны Матвеевой. Отдали сюда потому, что из Сызрани брали меня не раньше ноября, и в первый класс школы записать не успели. Во второй тоже. В школу я попала лишь в 10-летнем возрасте, сдав экзамен в третий класс. Группа М.Н. Матвеевой, в которой была я обучена тому, что положено знать в раннем возрасте, находилась на Большой Молчановке, куда и отводили меня по утрам и где дети (их было здесь шестеро) оставались до 2-х часов, а потом уже с другой наставницей — Маргаритой Кондратьевной (она была немка) — после завтрака шли на Новинский бульвар, где, прогуливаясь, изучали немецкий разговорный язык. Раз в неделю были занятия по рисованию. Они проходили в большой квартире одного из арбатских домов (шестиэтажный дом на углу Арбата и Староконюшенного переулка) под руководством художницы Ольги Александровны. Квартира, куда мы приходили, принадлежала (частично, не вся) старикам Марии Ивановне и Фёдору Фёдоровичу Кошке, а также семье их дочери Маргариты Фёдоровны и её мужу инженеру Шадрину. У Шадриных была дочь Марина и сын Игорь. Марина обучалась в группе Марии Николаевны. Старики Кошке, немцы по происхождению, занимались изготовлением бандажей и бюстгальтеров, о чем сообщалось в скромной вывеске-табличке, висевшей у подъезда.
Московские зимы с их наполненностью всякими образовательными мероприятиями чередовались с вольной сызранской жизнью, гулянием в приволжских лугах, купанием в озерах и в Волге, играми в лапту прямо на широкой Почтовой улице, но также и чтением, от которого никогда не отступалась бабушка.
Жизнь вместе с отцом в глухих деревушках или небольших селениях, окружённых лесами, отстоящими далеко от городов, приносила много интересного и подчас удивительного. Новые впечатления, новые лица. Поездки на лошадях, посещение базаров, присутствие на деревенских праздниках, сборы грибов и ягод, золотой и душистый мёд, игры с деревенскими ребятами. Вокруг нас всегда были люди, и где бы мы ни были, всюду чувствовали их расположение.

Здесь мне 6 лет. С родителями. 1931 г
После всего этого — снова Москва. Но с годами — уже в восемь-девять лет — границы знакомства с ней расширялись, раздвигаясь не только по желанию родителей, но и по нашим — ребяческим — интересам. Мои приятели по Горбатке познакомили меня с той Москвой, которая не ограничивалась музейными и архитектурными достопримечательностями. Об этом — ниже, а пока хотелось бы сказать о тех, кто населял квартиры дома № 4, нашего дома.
Когда впервые мы оказались здесь, и в нашей квартире, и в других жили люди самые разные, но близкие по своим профессиональным интересам и образу жизни. Потому и возможно было существовавшее в доме сообщество, которое впоследствии, по мере того, как состав жителей изменялся, рассеивалось и исчезало. Достойным и в каком-то смысле патриархальным было семейство доктора Варшавского. Правда, прожил он рядом с нами недолго, но в памяти остался как очень видный и вместе с тем скромный человек, появлявшийся в общественной кухне чрезвычайно редко, но неизменно в темной пижаме по утрам, а днем — в костюме с жилетом, галстуком, вычищенных башмаках. Пенсне блестело, белые манжеты сорочки отглажены, воротничок плотно прилегает к розовой шее. На работу он уходил в элегантном пальто, с портфелем и зонтиком. Часто уезжал на извозчике, поджидавшем его в переулке, возвращался домой точно к пяти часам, и прислуга, приходившая ежедневно, была уже готова с обедом. И жена Ильи Ивановича Варшавского была красива, спокойна, двигалась плавно, говорила приятным голосом. А уж дочь вовсе была красавицей, на которую все на Горбатке любовались, когда она вместе со своей девочкой отправлялась на прогулку. Зять Варшавских часто куда-то уезжал, и чем он занимался, известно не было. Вскоре это семейство покинуло принадлежавшие им комнаты, и на их место переселилась наша семья, что опять-таки было событием существенным. Теперь у нас было уже две комнаты — площадь их составляла 23 кв.м. Первая комната побольше, она была проходной, вторая — маленькая. Окно первой выходило в проход между двумя флигелями, и света в ней было маловато, окно второй смотрело в переулок, виден был Чурмазовский дом, дровяной склад (потом на его месте появился фабричный цех, а, вернее, просто двор, где изготовлялись краски, увозившиеся в больших железных бочках), а за ними — берег реки.
Читать дальше