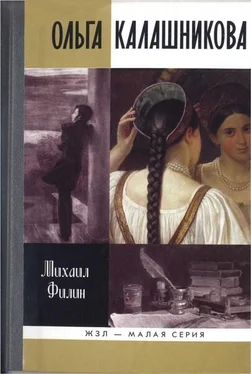Напомним; весталка Ольга Калашникова ежедневно и подолгу трудилась в комнате няни Арины Родионовны, расположенной напротив пушкинской. Когда же начался «крепостной роман», который поэт без долгих, по всей видимости, предисловий превратил в полноценную связь?
В «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина», составленной М. А. Цявловским, точкой отсчёта объявлен декабрь 1824 года [52] Цявловский. С. 487.
. Думается, что датировку авторитетного учёного допустимо слегка, присовокупив «вопросительный крючок» (VI, 149), скорректировать. Возможно, всё произошло уже в последнюю декаду ноября, вскоре после отъезда из деревни Сергея Львовича Пушкина, который присматривал за сыном, был бдительным «шпионом» (XIII, 116). Между прочим, до начала декабря в сельце отсутствовал и отец девицы, Михайла Калашников [53] Ср.: Аринштейн. С. 69. Из письма Пушкина к брату и сестре от 4 декабря 1824 года выясняется, что Михайла Калашников только что вернулся из Северной столицы (XIII, 127).
.
П. Е. Щёголев ничуть не сомневался в том, что Арина Родионовна, ненадолго отложив в сторону чулок и спицы, поспособствовала сближению своего «ангела» с хорошенькой швеёй. Однако наторелый поэт вполне мог обойтись и без сводни.
Амурное приключение не оставило Александра Пушкина равнодушным. Он стал реже посещать тригорских соседок, даже обозвал их (в письме от 4 декабря 1824 года) «несносными дурами» (XIII, 127). А когда в середине декабря в село Тригорское в очередной раз приехал погостить дерптский студент Алексей Вульф, брат барышень, то Пушкин, среди прочего, откровенно поведал знакомцу о завязавшемся «романе». В ответ Вульф, тонкий и циничный знаток предмета, «холодный ремесленник любви» (П. Е. Щёголев), принялся вышучивать сентиментальность питомца муз.
Следствием фривольной беседы стал полемический набросок Александра Пушкина [54] Л. М. Аринштейн считает эти стихи «шутливым куплетом» (Аринштейн. С. 69). Иногда думают, что набросок был адресован тригорским барышням; см., напр.: Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина. М.; Л., 1950. С. 368, 596.
, который был написан между 25 и 31 декабря 1824 года [55] Фомичёв С. А. Указ. соч. С. 59–60.
. Текстологические наблюдения показывают, что поэтические строчки дались Пушкину не сразу.
Сперва поэт написал:
Смеёшься ты, повеса бойкой,
Что я поломойкой
Пленён…
Потом бумаге был доверен иной вариант стихов:
Смеётесь вы что поломойкой
Пленён я бойкой…
А рядом, на том же листе, зафиксировано: для поломойки…
И наконец Пушкину удалось подобрать более или менее гладкую рифму:
Смеётесь вы, <���что> девой бойкой
Пленён я, милой поломойкой… (II, 422, 942).
Стихи не были продолжены, но и в скупых строках черновика автором сказано изрядно.
Бросается в глаза: на всех этапах сочинительства в намечавшемся послании неизменно присутствовала «поломойка», слово совсем не пушкинское, инородное, никогда — ни до, ни после гривуазного разговора — в текстах поэта не встречавшееся [56] Словарь языка Пушкина. Т. 3. М., 1959. С. 512.
. Очевидно, Александр Пушкин заимствовал его у Вульфа, и процитировал он «любезного Алексея Николаевича» (XIII, 162), следовательно, намеренно. Студиоз из Дерпта, не усматривавший в представителях «хамова племени» себе подобных, беспечно назвал Ольгу Калашникову «поломойкой», и данное уничижительное титулование не пришлось собеседнику по вкусу. Ссориться Пушкин не хотел; взамен этого взял в руки перо и попробовал возразить — для себя и как бы про себя — приятелю стихами. Смысл оных угадывается: «Что ж, Вульф, быть по-твоему: поломойка так поломойка. Но поломойка, согласись, милая; и я пленён ею».
Спустя пару недель в сельцо Михайловское пожаловал Иван Пущин, тоже знатный ловелас. Побывав в комнате Арины Родионовны и разглядев вышивавшую Ольгу Калашникову, он вмиг смекнул, кем является эта броская девица для Пушкина: «Я невольно смотрел на него с каким-то новым чувством, порождённым исключительным положением: оно высоко ставило его в моих глазах, и я боялся оскорбить его каким-нибудь неуместным замечанием».
А дальше друзья, не сговариваясь, повели себя как заправские авгуры: «Впрочем, он тотчас прозрел шаловливую мою мысль, улыбнулся значительно. Мне ничего больше не нужно было; я, в свою очередь, моргнул ему, и всё было понятно без всяких слов» [57] ПВС-1. С. 109. «Сцена описана очень тонкими, но отчётливыми чертами», — отметил В. Ф. Ходасевич (Ходасевич. C. 113). Комментировавшему данный эпизод П. Е. Щёголеву казалось, что «Пущин застал именно начальный момент любовного приключения, быть может, ещё и не разрешённого физиологически». Однако пушкинист был вынужден признаться: «Увы! только кажется, а утверждать не смею!» (Щёголев. С. 33).
.
Читать дальше