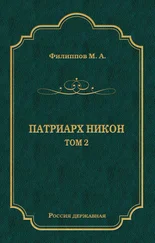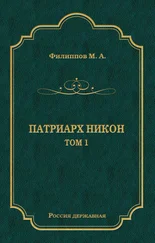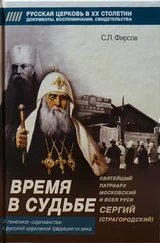По своему внешнему виду Иван Страгородский не был особо примечательным среди студентов: высокий, худощавый, немного неуклюжий, в очках и с непослушными волосами. Но при близком знакомстве это впечатление изменилось коренным образом: Иван Николаевич оказался человеком на редкость мягкого характера, был приветливым и ровным со всеми. К тому же он обладал прекрасным басом, и новые товарищи были буквально очарованы, когда он в первый же вечер со своим подголоском И. П. Слободским запел народные песни и особенно духовные стихи калик перехожих. Умение петь сопровождалось умением играть на фисгармонии. Иван любил этот инструмент и очень удачно импровизировал церковную музыку. Популярность Страгородского среди товарищей быстро росла, с некоторыми из них его связала дружба искренняя и глубокая, сохранившаяся на всю жизнь.
В то время учебный план академии по уставу 1884 года включал предметы двух отделений: исторического и литературного. Студент Страгородский взял для изучения предмет исторического отделения. По тем временам расписание студентов не было особенно перегружено: слушание профессорских лекций чередовалось с написанием так называемых семестровых сочинений, а потому им предоставлялось много времени для самообразования. Иван Страгородский дополнительно записался на курсы иностранных языков: английского, немецкого и древнееврейского; обладая хорошим голосом, почти ежедневно участвовал в богослужении в академическом храме. Прекрасные бытовые условия, блестящий преподавательский состав, отличная библиотека давали возможность студентам посвятить себя наукам.
Для самообразования студент Страгородский занялся изучением текста и толкования Священного Писания и святоотеческой литературы. Очень скоро Иван стал выделяться среди студентов своими незаурядными познаниями, его курсовые сочинения отличались глубиной мысли и эрудицией. Светские удовольствия, которым отдавали дань многие его товарищи, Страгородского не интересовали, зато он неизменно присутствовал на ежедневных академических богослужениях.
Один из сокурсников Ивана Страгородского, в последующем архиепископ Варсонофий (Городцев), вспоминал: «Действительно яркой звездой… курса был Страгородский Иван Николаевич… Он с первых же дней заявил себя внимательным отношением к так называемым семестровым сочинениям, вдумчиво прочитывал нужные книги, для чего посещал Публичную библиотеку, слушал лекции и на экзаменах давал блестящие ответы… Еще на третьем курсе он начал усердно изучать творения святых отцов Церкви и знакомиться с мистической литературой… Под влиянием отеческой и аскетической литературы в сердце Ивана Николаевича стало зреть и крепнуть желание принять монашество, и он еще студентом решил поехать в Валаамский монастырь, чтобы опытно изведать подвижническую жизнь иноков этого строгого по уставу монастыря… Он… очень любил творения Тихона Задонского, Феофана Затворника… В беседах он и меня звал в монашество: „Оставь, — говорил он, — мертвым погребать своих мертвецов“» [1] Патриарх Сергий и его духовное наследство. М., 1947. С. 207–209.
.
При переходе на второй курс студент Иван Страгородский в разрядном списке академического курса занимал четырнадцатое место, на третий — второе; на четвертый — третье.
Летом 1889 года, перед последним четвертым курсом, Иван Страгородский со своим однокашником Яковом Ивановым отправился на богомолье на Валаам. Пробыли они там все летние каникулы. Иван работал в монастырской канцелярии, а Яков занимался всякого рода физической работой в монастырском хозяйстве. Там к ним обоим и приходит окончательное решение принять монашество. Свою роль в этом сыграли и настойчивые призывы академического инспектора архимандрита Антония (Храповицкого) к студентам воспринять монашеский сан, чтобы послужить всей жизнью своею церкви. К слову сказать, учеником Антония Храповицкого в эти же годы был и Василий Белавин — будущий патриарх Московский, учившийся несколькими курсами старше Ивана Страгородского. Мы не знаем, насколько они были знакомы, но можно предполагать, что пути их в академии пересекались, как будут пересекаться они и в будущем. Студент Страгородский привлекал архимандрита Антония своими блестящими способностями, благостностью и чисто православным пониманием богословия. О характере складывавшихся между ними отношений можно судить по подарку, который Сергий сделал после окончания академии своему учителю и другу. Он подарил ему панагию с изображением Владимирской Божьей Матери, на которой была сделана надпись: «Дорогому учителю и другу. Дадите от елея вашего, яко светильницы наши угасают» (Мф. 25,8).
Читать дальше
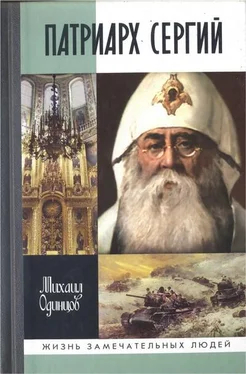

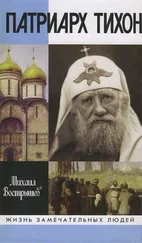

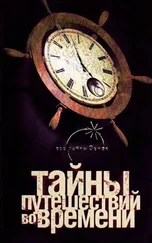


![Александр Одинцов - Дерзкие рейды [Повести]](/books/405564/aleksandr-odincov-derzkie-rejdy-povesti-thumb.webp)