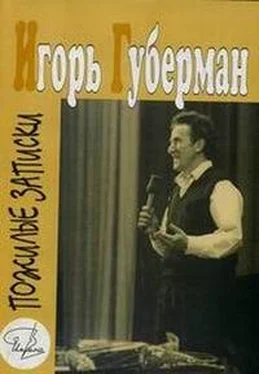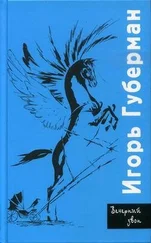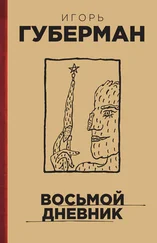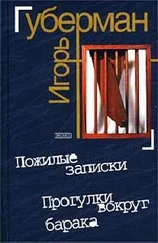Утром был Самойлов мрачен и неразговорчив. У меня даже мелькнула мысль, что он помнит свою вчерашнюю вспышку (или Галя ему о ней рассказала) и он хочет загладить мою возможную обиду, но пока упрямо по-стариковски молчит. Мы растопили печь, отхлебнули пива, и Давид Самойлович сказал:
– Послушай, мы вчера…
– Я написал, как обещал, – нагло перебил я его.
– Даже написал? – изумился Самойлов.
– Я боялся в устном слове сбиться, – объяснил я, – или вы перебивали бы меня, а все советские вожди читают, и им поэтому дают договорить.
– Неси скорей, – сказал Самойлов.
Я притащил большой блокнот, куда писал время от времени каракули после наших утренних сидений; вложенные внутрь него страницы были незаметны, я еще на всякий случай не садился и стоял на расстоянии от стола. Самойлов закурил и изобразил доброжелательное внимание.
О, я читал прекрасный текст! В нем говорилось, что сегодня к власти пришел очередной чиновник из партийного аппарата и хозяйским свежим глазом окинул свое обширное хозяйство. Обнаружил, что оно запущено, изгажено и разворовано, дела идут из рук вон плохо, всё ветшает, прогнивает и шатается, надо невообразимо много менять. Ему следует прежде всего полностью свалить вину на предшественника, заменить сотни никуда не годных и проворовавшихся работников, снова обещать несбыточные улучшения, но всё устройство – с несомненностью оставить прежним. Ибо по самой своей мыслительной сути не в состоянии понять этот чиновник, что все причины – именно в устройстве. А потому и доверять его замаху и зачину – категорически нельзя, поскольку глупо.
Я читал неровно и взволнованно. Спотыкаясь, всматривался в текст, словно не мог разобрать собственные ночные закорючки. Я боялся, что Самойлов опознает свою руку, но его слова о ситуации тридцатилетней давности и психологии партийного вождя звучали абсолютно по-сегодняшнему. (Я и посейчас уверен: Горбачев хотел только ремонта империи, а что джинн из бутылки вырвется – вовсе не предполагал.)
Я закончил и закрыл блокнодч Самойлов медленно сказал, цедя слова:
– Во-первых, ты стал замечательно писать…
Я гоготнул, не удержавшись, но Давид Самойлович воспринял это как стеснительно-застенчивую реакцию на его (впервые за все годы) похвалу.
– А во-вторых… – он искал какое-то точное слово, но мне уже показалось неудобным этот розыгрыш тянуть, и я молча положил его листочки перед ним на стол. Он машинально отодвинул пиво и всмотрелся.
– Не серчайте, Давид Самойлович, – сказал я. – А текст действительно прекрасный.
– Да, хороший текст, – Самойлов говорил невесело, – и спорить не о чем, похоже. Я, видно, старый стал, если меня так можно провести…
Он, несомненно, не о розыгрыше говорил, а о своей вчерашней вспышке агрессивного оптимизма, это явно удручало его чем-то, не берусь вдаваться в догадки.
– А тебе, конечно, лучше уезжать, – не было в его словах одобрения, но я и раньше знал, как негативно он относится к отъездам. И мы оба быстро-быстро, дружно-дружно заговорили на какую-то совсем иную тему.
А год спустя на вечере Самойлова в музее Герцена я был свидетелем того, как впервые прозвучал эпитет «русскоязычный» про этого большого русского поэта. Перед началом вечера стоял Давид Самойлович возле низкой сцены в зале музея, а вокруг него толпились почитатели, и я, естественно, толпился тоже. И кто-то только что приехал из Литературного института и взволнованно повествовал, что вот на семинаре некто (я забыл, кто именно) сказал сегодня, что, мол, Мандельштам, Пастернак и Самойлов – вовсе не русские, а только лишь русскоязычные поэты. Все тут же молча уставились на Самойлова, алчно ожидая от него какой-нибудь гневной публицистически-гражданственной тирады. И я еще раз поразился легкокрылой мудрости этого человека:
– Ах, я в хорошую компанию попал, – сказал Самойлов жизнерадостно и просто, чем весьма разочаровал ревнителей общественного красноречия.
А я – я больше не искал благословения у старших. А теперь уже и сам обильно получаю письма и тетрадки от графоманов.
И сюда, конечно, стоит включить записки, приходящие от зрителей во время выступлений. О, это дивная литература, в ней бывают редкостные словесные удачи. Вот, например, какая есть у меня записка: «Вы источаете такую сексуальность, у меня от вас внутри что-то дрогает».
А вот образец подлинной прозы: «Не ваш ли это тонкий лирический рассказ, который кончается словами: догоню – убью к ебене матери?» И множество приходит то хвалебных, то ругательных стихов. А как-то даже я вкусил сладость узнавания на улице.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу