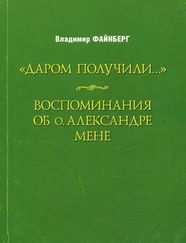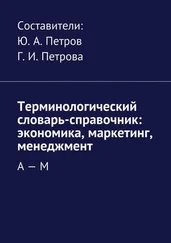— Когда дуют сильные ветры, — как‑то очень лично, выдавая внутреннее напряжение, произносит он, — на месте остаются только деревья с мощной корневой системой. Наша ду–ховная жизнь — это наши корни. Держимся за Небо, как Антей — за землю…
«Корни», «почва», «почвенник» — слова, преследующие меня с семнадцати лет. Именно с этого возраста волею судеб варюсь в литературном котле. В Литинституте, где я училась в пятидесятых, укоренёнными в почве, носителями духа народного, считались уроженцы деревень и сел, районных и областных центров, а мы, москвичи, — бескорневыми, беспочвенными, а значит, поверхностными, как бы инородными.
Корни — в земле, дух — в Небе, а тут разом всё перевернулось. «Наши корни — это наша духовная жизнь…» Моя духовная жизнь напитана именно Россией: русским языком, литературой, историей, искусством, а теперь немного и философией. Вот почему мне так больно выдираться отсюда…
Словно услышав мои мысли, A. B. подхватывает:
— Скажу ещё как биолог. Человек — живой организм. Если его вырвать из окружающей среды, последует неминуемый взрыв. Конечно, понимаю, это — огромный соблазн. Я бы сам уехал, — смотрит он мне прямо в душу, — если бы… не Бог.
Он не только предельно откровенен. Он ещё и проницателен.
— Вы чего‑то не договариваете! — ловлю его голос уже в дверях.
Но, не отвечая, выскальзываю в прихожую.
Ключ уже в замке. Но доски крест–накрест на двери ещё остаются.
«Вы чего‑то не договариваете…» Не в первый раз A. B. выказывал свою проницательность.
Когда, при второй или третьей встрече, решила подарить ему свою книжку и задумалась, присев у стола, он откровенно поиздевался:
— Не старайтесь для истории! Надпишите просто!
В тот раз я, пожалуй, «не старалась для истории» — обжигающая новизна пережитого в те дни заглушила многие привычки. Просто, давая автограф, мне не хотелось выглядеть дурой. Но вообще что‑то такое бродит во мне. Думается: автора уже не будет на земле, а книга, может, останется, кто‑то прочтёт, что я тут нацарапала… Так что раскусил он меня сразу.
— Вам не хватает лёгкости! — поставил диагноз, определив причину многих зряшных переживаний. И это тоже было правдой…
«A. B. Меню, ещё мало зная его, но уже бесконечно доверяя ему», — написала я тогда на книге. А за свои слова нужно отвечать…
Свою жизнь я подвергла коренной ломке. Переиграла. Вышла из тихого угла на площадь. Нет, нет, ни на митинг, ни на демонстрацию. Иногда для того, чтобы перейти из комнаты в комнату, требуется не меньше мужества, чем для трибунной речи.
Я объявила близким, что никуда не еду. Остаюсь. Завтра же пойду в ОВИР и заберу своё заявление.
— К‑как?! — все потрясены. Муж — в отчаянии.
Даже те приятели и коллеги, что не стеснялись в выражениях, характеризуя наш предполагаемый отъезд как «предательство», разочарованы.
«Решиться на такое было безумием, а отказаться — самоубийство!» — выразила общее настроение одна самонадеянная дама.
В ОВИРе заявление не вернули. Оттуда ничего не возвращают. Сдают в архив.
Мои труды — они не пропадут.
К восторг… неудовольствию друзей,
Однажды на Лубянку попадут,
А это — неминуемый музей, —
перефразировала я Гарика (Игоря Губермана).
Инспектор ОВИРа просит написать новую бумажку, чтобы аннулировать предыдущую. И эту — тоже в архив. Спрашивает, общее это решение нашей семьи или только моё. Инспектор — женщина. Свойская. Вероятно, к бунтующим отказникам она поворачивается другой своей стороной, ледяной. А ко мне — тёплой. Мы же вроде как заодно.
Объясняю мать–и-мачехе, что могу ручаться только за себя и несовершеннолетнюю дочь. Муж не созрел… для отказа (обычно «созревают» для отъезда). Ах, так? Тогда нужен ещё один документ: о разводе.
Разводную бумажку заглотнул ОВИР. Но не сыт, обжора этакий. Подавай ему ещё и заверенную в нотариальной конторе справку, «данную в том, что…» не имею к мужу никаких материальных претензий и против. его отъезда за рубеж на постоянное жительство не возражаю. Выправили и это заверение.
— Теперь все?
Инспектор довольна:
— Теперь вам все до лампочки. А муж пусть ждёт.
— Сколько?
— В связи с обострившимся международным положением сроки нам неизвестны.
— Может быть, он ещё передумает. Понимаете, он любит… дочку… меня…
Глянцевым холодом поворачивается лист мать–и-мачехи:
— Это не любовь!..
Мёд бы пить инспекторскими устами: «все до лампочки». На самом деле жизнь приходится начинать чуть ли не с нуля. В прошлом году, при подаче документов на выезд, меня исключили из Союза писателей, перестали печатать. Книги мы больше не продаём — хватит кровопускания! Сижу без работы. Опытный кадровик, — а все они опытные, — грозно рыкнёт:
Читать дальше