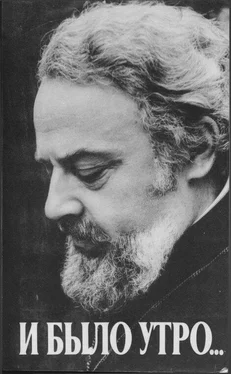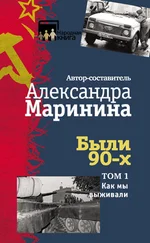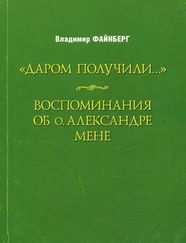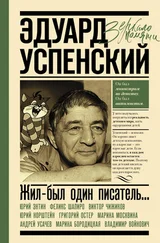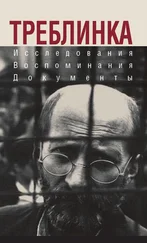Как мало я знала, куда и к кому еду, говорит уже то, что в типично подмосковный, с давно стёртой, старой и слабо выраженной новой физиономией, городок Пушкино я вступила, как правоверный мусульманин в Мекку. И, естественно, фазу ощутила разочарование. Мрачный переходный тоннель с ползучим змеем воскресной толпы; пропахшая бензином автостанция впритык к железнодорожной; не раз схваченная объективом ленивых киношников старинная бело–коричневая водонапорная башня, будто бы передающая специфику русской провинции; привокзальный рынок со сторублёвыми (ещё!) шапками из нутрии и ягодно–грибным безопасным сбором дочернобыльской эпохи. «Барабан был плох, барабанщик — бог», — надрывался динамик, выброшенный, как пиратский флаг, киоском звукозаписи, одним из жалких бастионов зажатого в ту пору частного сектора.
Это потом самый Спуск в подземный переход и торопливый лёгкий подъем, треснутый асфальт в отпечатках автобусных шин и нехитрая рыночная снедь приобретут ни с чем не сравнимый привкус счастья.
Сев, как мне было указано, на любой автобус, я заехала не туда, долго петляла и плутала по улицам и проулкам, пока язык не довёл меня до Центральной улицы Новой Деревни. Шла по левой стороне мимо одноэтажных домов с палисадниками и гадала, в котором из них живёт необыкновенный священник. Почему‑то думалось: живёт, где и служит. Один дом показался мне подходящим. Стояки калитки — в виде резных фигур: с одной стороны — Сергия Радонежского, с другой — Димитрия Донского. И славянской вязью — по дереву — надписи. Нет, не угадала! Всемирно известного философа–богослова я вселила в обиталище местного художника–умельца.
Лучше бы я не знала о Мене ничего, чем те отрывочные и путаные сведения, которые насобирала по знакомым. От лошадиной дозы самой противоречивой информации у меня подрагивали колени; даже слегка подташнивало — как всегда перед серьёзным испытанием.
Улица вдруг пересеклась другой, образовав идеальное распутье. По левому, худосочному рукаву, как я потом узнала, можно было живописной дорогой вернуться на станцию, а правый, широкий рукав оказался церковной оградой. Рукав переходил в пустырь, пустырь разрастался, растворялся в бурой ван–гоговской желтизне, дотягиваясь до Старого Ярославского шоссе, до линии горизонта. Я вышла прямёхонько к церковной ограде и стала как вкопанная. Деревянная, игрушечная церковка о двух синих куполах, с веероподобным изображением святого духа над входом, улыбнулась мне. Солнце, сбитое с яичным желтком, — таков был общий колер.
Я приехала поздно. Служба кончилась. Не скажу, что тесное пространство двора запрудила толпа, но было многолюдно. Все кого‑то ждали. Его?.. Каждому, думаю, знакома необременительная зависть к другой, неведомой жизни, в которую нет и не будет доступа, на мгновение овладевшая мною. Я её прогнала. Моя цель — не втираться в чужое общество, а поговорить с объективным человеком, священником, получить совет (слова «благословение» не было в моём лексиконе). Поговорю — и уйду. А потом и уеду. Вероятно, насовсем…
И теперь для меня до некоторой степени загадка, почему в то августовское воскресенье я поехала в Новую Деревню. Ведь все уже вроде было решено: более года назад муж, дочь и я подали документы «на выезд». Отказа не предвиделось. Никто из нас не изобретал водородную бомбу, не трудился над бактериологическим оружием. Не раздражали мы верхи и диссидентской деятельностью, демонстрациями на Красной площади…
В то лето шёл суд над Татьяной Великановой. Муж попробовал было пройти в зал суда, где‑то в районе Люблино, ссылаясь на то, что родственник. Не пустили. Потребовали паспорт и записали данные любознательного… Танина мать, Наталья Александровна, в самом деле моя родственница, слегла с тяжёлым инсультом. Я дежурила у неё в Первой Градской, переживала за Таню. Но все это не выходило за границы нормального человеческого сочувствия. Убеждения не те?
Для многих знакомых и коллег, моих особенно, наше решение эмигрировать явилось полной неожиданностью. Посыпались письма, телефонные звонки: «Одумайтесь, несчастные! Здесь у вас есть своё место в жизни, а кому вы нужны там? Окажетесь в самом низу социальной лестницы, будете писать в пустоту, обречёте себя на вечное изгойство…»
Даже самые близкие не догадывались о том, что тяготило меня больше всех этих вполне реальных страхов. Смутное, но сильное чувство, что поступаю я не по–божески. Предаю своё прошлое, единственное, неповторимое, именно моё, — другого прошлого у человека быть не может. Уезжая, расстаюсь с друзьями, что давно проросли в меня, а я проросла в них; рвану в сторону — порву все жизненные капилляры, истеку живым соком. Прощаюсь навсегда с Москвой, Подмосковьем, хотя это — моя родная стихия. Может, я — человек–амфибия: выброси меня на берег, пусть обетованный, начну задыхаться среди сухопутных красот, ибо привитые жабры обречены омываться водой.
Читать дальше