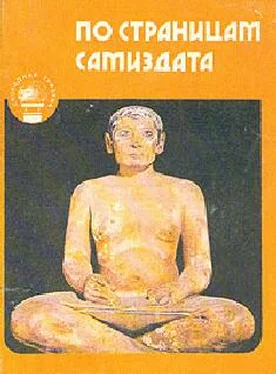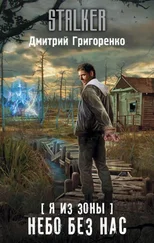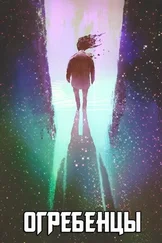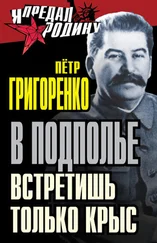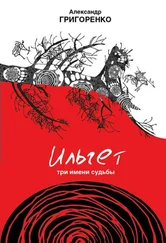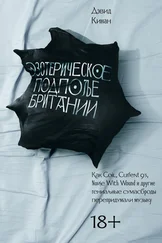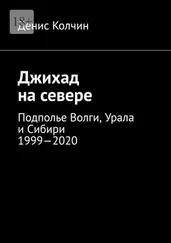Описывать красоты природы и трудности передвижения с общечеловеческой точки зрения мне трудно, как в силу вышесказанного, так и потому, что я был на Дальнем Востоке после того еще дважды, каждый раз с большим перерывом во времени. За время перерыва все сильно изменялось. Поэтому в моем воображении все перемешалось и мне часто бывает трудно сказать от которого времени то или иное впечатление. Твердо от первой поездки по Дальнему Востоку запомнились пустые станицы амурских и уссурийских казаков и обилие овощей во Владивостоке. Опустелые станицы нагоняли тоску и вызывали недоумение. Везде следы поспешного ухода. Болтающиеся двери, бездомные коровы, лошади, овцы. На улицах станиц одичавшие собаки, разбросанные во дворах и на улицах различные домашние вещи и утварь, брошенный как попало, сельскохозяйственный инвентарь. Почему ушли эти люди с родной земли, от родных очагов, из страны – родины трудящихся всего мира, в какую-то Маньчжурию, которая в моем представлении была страной отсталой, полудикой. Я все время думал об этом и осаждал вопросами сопровождающего нас штабного командира из 3-го колхозного корпуса, в который мы и были командированы.
– Ну как же они ушли? – допытывался я.
– Очень просто, – отвечал он. – Как только «стали» Амур и Уссури, так они по льду и пошли. Со всем скарбом, со скотом. Я сам всего этого не видел, конечно. Наш корпус сформирован на Западе и переброшен сюда уже после ухода казаков, для их замены. Это пограничники рассказали нам об их уходе.
– А что ж пограничники смотрели? Почему не остановили?
– Попробуй, останови. Это же казаки. Обученные воевать и вооруженные. А пограничников – сколько их тут. Застава от заставы на сотню километров. Казаки прекрасно знают их расположение. Блокировали заставы. Пограничники думали больше о том, как бы самим не попасть в руки казакам. Тем более, что у казаков было все сговорено. Их с той стороны встречали свои.
– Так может те, с другой стороны, запугали этих, принудили уходить, – хватаюсь я за первую возможность оправдать уход чьей-то злой волей, а не личным желанием. Но собеседник мой отбивает эту попытку.
– Кто их там запугивал? Они сами туда посылали своих гонцов, просили помочь им.
– Да как же так? Что им здесь не понравилось? Как же так, бросить все завоевания революции и идти на чужбину.
– Какие там у них завоевания?! Начали чуть не сплошное раскулачивание и высылку на север. Разве вольный казак это потерпит? Убегали, прятались, а потом уходили в Маньчжурию. Появилась статья Сталина «Головокружение от успехов». Немного изменилось. Потом потихоньку стали снова зажимать. И снова побеги в Маньчжурию. Оттуда и стали приходить вести, что ранее ушедшие туда «кулаки» получили землю и живут как в старину. А тут хлебозаготовки страшные. Забрали весь хлеб. Нависла угроза голода. И вот, сговорившись с земляками в Маньчжурии, чтоб те встречали на том берегу и, в случае чего, помогли, в одну ночь все казачество перемахнуло по льду Амура и Уссури, бросив все, что взять не смогли или забыли.
Меня эти объяснения не удовлетворяли. Получалось, что виновата Советская власть, а я этого воспринять не мог. Поэтому дальше расспрашивать не стал.
Сразу с Дальнего Востока направился в Москву для подыскания квартиры. Потом поехал за семьей в Ленинград. Затем началась учеба. Совесть моя ничем не была потревожена. Ленинград и Москва жили относительно благополучной жизнью, хотя и при карточной системе. Об остальной стране я знал только по газетам. А там всегда все было «о'кэй».
Лицо академии резко изменилось. Вместо спокойных, тихих, малолюдных помещений, строгой тишины библиотек, читален, лабораторий, подтянутых, строгих и в большинстве уже пожилых военных, – переполненные студенческой молодежью коридоры и классы. Военная форма сидит на них кое-как, шумят и галдят они как и все студенты мира. Их в 5-6, а может и в 7 раз больше, чем было у нас на факультете в Ленинграде и мы, «кадровики», потонули среди них. Но учеба шла, юноши мужали, новые наборы наполняли академию иным – военным контингентом и все приходило «на круги своя» – академия становилась военной во всех отношениях.
Два оставшихся года учебы пролетели незаметно. Было много всего, но это будни учебы, все не перескажешь. Я остановлюсь лишь на эпизоде, связанном с моей производственной практикой 1933 года. В этом году, видимо, ЦК поставил задачу привести УР'ы в боеготовное состояние. Технических руководителей в самих УР'ах для этого не хватало, да и квалификация их, как увидел я впоследствии, была явно не на высоте. Эти кадры удовлетворительно справлялись со своей задачей пока шли земляные работы, опалубка, армирование, бетон. Справились они и с маскировочными работами. А вот внутреннее оборудование застопорилось, и весьма существенно. Многие прорабы – люди гражданские: не знакомые ни с баллистикой, ни с техническими данными оружия, ни с противохимической защитой – избегая незнакомого дела, увольнялись, а те, кого не увольняли, опускали руки. Люди предпочитали получить любое административное взыскание за невыполнение плана, т. е. за ничегонеделание, чем сесть в тюрьму за вредительство, т. е. за неправильную установку оружия и других технических средств.
Читать дальше