Время было голодное, нам все время хотелось есть, и Вилли забывал все на свете и не считался ни с какими обременительными предрассудками, когда дело касалось еды.
Мой паек мы делили честно пополам. Это было облегчено тем, что мне почему-то постоянно давали баранину и рис. Готовился плов, который легко делить. Делили также чай, сахар и прочие продукты.
Вилли же свой паек брал обедами на работе. Кроме того, Серебрянский иногда водил его с собой в генеральскую закрытую столовую в помещении ресторана Арагви. Периодически в буфете на Лубянке давали какие-то внеплановые бутерброды. Вилли честно и подробно обо всем этом рассказывал, но никогда не принес домой ни крошки. Он, полагаю, честно верил, что был голоднее меня. Так, возможно, оно и было.
Вилли редко приходил с работы раньше двенадцати-часу ночи. А то и позже. Так было принято в те годы. Так жила и работала вся страна. Пока не ляжет спать Сталин, — а он ложился на рассвете, — ни один человек, которому мог позвонить Вождь, не смел заснуть. Те, кому могли позвонить эти люди, также бодрствовали. И так — по всей иерархической лестнице. Во время войны это еще объясняли тем, что ночью может что-нибудь случиться. Случалось, однако, и днем.
Сготовив поздний ужин, съев его, мы иногда подолгу не ложились спать, обсуждая все мировые проблемы.
Постепенно, вопреки конспирации, нашли общих знакомых и стали обсуждать их.
Тут я узнал, что одна моя парижская приятельница, о которой мне было известно, что она работает на советскую разведку и была в Союзе, училась у Вилли в разведшколе. Несколько пуританский Вилли был шокирован, что эта представительница знатной эмигрантской семьи не стеснялась совокупляться в душевой с одним из слушателей школы — французом.
Узнал я также, что радист так называемого Учебного батальона противовоздушной обороны, в котором я служил в Испании, австриец Курт, которого сменил приехавший уже при мне Липовка, был тоже учеником Вилли. Его внезапно отозвали в Москву и расстреляли.
— Как троцкиста, — объяснил Вилли.
— А разве он был троцкист? — спросил я.
Вилли посмотрел на меня широко выпученными глазами и, сраженный такой глупостью, ничего не ответил.
4. «Где так вольно дышит человек...»
Февраль 1941 года. Владивосток. Отчаянный, после Калифорнии, холод. Издали похожие на орангутангов грузчики в ватниках, ушанках с опущенными унтами, свисающих до земли рукавицах.
Воняющая сортиром гостиница «Интурист». Назойливые незнакомцы, которых не смущает ни холодность, ни резкость. В поезде — люди, пьющие на завтрак водку стаканами. Постоянное чувство, что за тобой следят, неотступно — от трапа парохода и до перрона Ярославского вокзала в Москве.
Позже я узнал, что так оно и было.
* * *
Приехавший раньше в Россию мой сослуживец по Испании Николай Поздняков разыскал меня сразу. Он сокрушался вместе со мной по поводу расстрела Эфрона и ареста Ариадны Эфрон.
— Но ты пойми, ведь мы ничего не знаем. Мало ли что мог наделать Сергей!
Бывший «капитан Андрэ» был доволен своей жизнью в Горьком, куда его поселили вместе с его молодым испанским другом.
— У начальства ко мне совсем особенное отношение. Совсем особенное!
И хихикал, умиленный любовью к нему начальства, рассказывал, как разоблачил в Горьком румынского шпиона.
И даже из его рассказа было ясно, что человек этот никакой не шпион.
Позже я узнал, что именно Поздняков был изобретателем радикального способа борьбы с идейными противниками за границей. Жертву оглушали, клали в ванну с соляной кислотой. Через какое-то время все спускалось в канализацию. Никаких улик. Клеветники, которые вздумали бы утверждать, что Москва занимается политическими убийствами, были бы посрамлены.
Вызывавшая жалость полуслепота, болезненный вид, скелетная худоба, сходство с Ганди, приличное знание нескольких языков, в частности, латыни и греческого, общая культура — все это внушало доверие, располагало интеллигентов к откровенности. Поздняков был незаменимым и восторженным провокатором. Работал перед самой войной камерным агентом — наседкой — в лагере для интернированных иностранцев.
Под личиной давно обрусевшего (чтобы объяснить неполадки с произношением) француза «мосье Рэми» он втирался в доверие к настоящим французам, схваченным во время «освобождения» Прибалтики. Готовил их вербовку, которую завершал капитан государственной безопасности Кукин.
Читать дальше
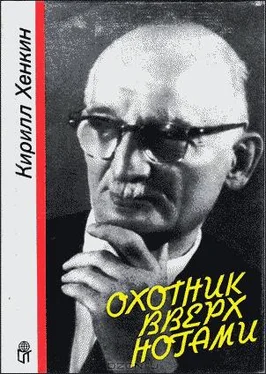






![Игорь Маранин - Вверх ногами с рыбой во рту [СИ]](/books/394422/igor-maranin-vverh-nogami-s-ryboj-vo-rtu-si-thumb.webp)
![Владимир Поселягин - Охотник - Охотник. Зверолов. Егерь [сборник]](/books/416775/vladimir-poselyagin-ohotnik-ohotnik-zverolov-ege-thumb.webp)


