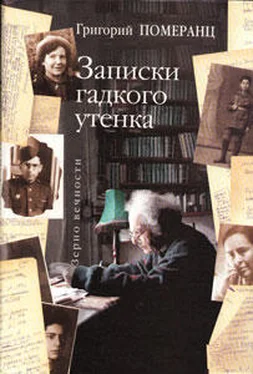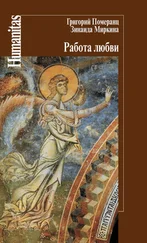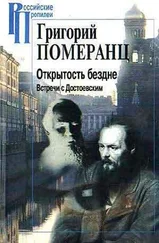Бывают взлеты, за которыми человек сразу падает. Так Мандельштам был пророком, обличившим Сталина. Дар поэта подтолкнул его и заставил забыть о собственной трусости. На Лубянке он сразу выдал всех, кому читал крамольные списки. И все же дело было сделано.
Мы все исполняем обязанности поэтов, проповедников, мыслителей, даже пророков. Пророчествовала же Валаамова ослица! А потом жевала сено. Мы исполняем обязанности иудеев, христиан, мусульман, буддистов, индуистов. И слава Богу, если хоть иногда приближаемся к подлинному исповеданию своей веры. Мы исполняем обязанности интеллигентов, в старом российском понимании этого слова. Мы исполняем обязанности творческого меньшинства. И если даже исполняем не очень хорошо — Бог нас простит. Не простит только довольства собой. Главное — равняться по первым рядам. По тем, в сравнении с которыми я хуже всех и рад служить тем, кто лучше.
У меня довольно широкий круг читателей, но не все они понимают, насколько мои мысли о вечности и о Боге (а значит, и о значении священного в культуре) связаны со стихами Зинаиды Миркиной. Эти стихи не только открывали во мне глубину, из которой растет творчество; сплошь и рядом, они давали отдельные метафоры, которые я потом разворачивал в понятия. Если наша семья — нечто вроде общества, то — в терминах индийской культуры — стихи эти занимают место вед, а мои опыты — упанишад; или, на китайский лад, наша семья — Дао, Путь, в котором органически сплелись Инь и Ян, женская поэтическая мысль и мужская мысль философа-культуролога.
Первой, как и в большой истории, была поэзия. Я пришел слушать стихи неизвестной мне больной женщины, не имея никакой сложившейся философии. Только отдельные мысли, набросанные на каталожных карточках. И сразу услышал то, что нигде не мог найти:
Бога ударили по тонкой жиле,
По руке или даже по глазу — по мне…
Меня потрясло, что карамазовский вопрос о смысле страдания и смерти оказался где-то внизу, тонул в образе Бога, страдающего и умирающего в каждой своей твари. Именно такой образ был мне нужен. Два месяца после смерти Иры Муравьевой я умирал вместе с ней, был закопан вместе с ней, и хотя потом ожил, но жил с чем-то вроде незакрывавшейся каверны, только не в легких, как у Иры, а в сердце. Я прошел через смерть и продолжал жить открытым смерти. Открытость эта искала опоры в Боге — и не могла принять традиционный образ Бога, без воли которого волос не упадет. Бога вне моего сердца, принявшего решение втолкнуть тромб в сердце Иры.
Зинино чувство Бога было для меня откровением. Мне было неважно, что для меня одного. Акт веры не требует ни доказательств, ни авторитета писания, принятого миллионами людей. Во мне этот акт совершился.
Так начала формироваться наша духовная молекула. Еще до того как выяснилось, какие между нами возможны личные отношения. Во всяком случае, ни о какой интимности я не думал. Было откровение и моя душа, жаждавшая этого откровения. И мой слух, привыкший к звучанию стихов Цветаевой и Мандельштама и отметивший, что Зинины стихи были несколько прямолинейны, риторичны, с интонациями Маяковского, от которого она была очень далека по своей сути. Истина слишком распирала ее, чтобы думать об оттенках слова, об ассоциациях, возникавших помимо логики. Прошло несколько лет, пока вкус Зины стал строже моего; но и тогда сохранилась роль первого критика.
Зина помнила, с какими глазами я слушал ее, и доверяла мне. Я был читателем, которого она давно ждала; меня не пугало предстояние Богу сквозь смерть, утешавшее только тем, что Он есть. А с ним бессмертен и смысл бытия:
Нет, никогда не умрет нетленный.
Я за Него умру.
Это стало моим догматом. Вечен не я, вечен присутствующий во мне Бог, вечен Океан света, на миг влившийся в щель моей плоти и давший мне вкус обоженности, вкус вечности. В понимании этого мы были единоверцами. И Зина с доверием принимала мои замечания. Даже когда я совершенно забраковал ее поэму.
Сам я тогда ничего не писал, и незадолго до потока своих эссе сказал (я это не помнил, но запомнила и повторяла мне Зина): «Ты нашла себя в том, как пишешь, а я — только в том, как живу, как люблю». И мне было совершенно достаточно этого. Но когда пришла нежность и наши отношения стали такими, как сейчас, Зина принесла с собой в приданое дар созерцания, и он разбудил во мне творческий огонь.
Я не был чужд созерцанию с юности, начиная со вглядывания в «Чаек над Темзой» Клода Моне. Я невольно созерцал покой степи, когда стихали бои. И в лагере я с упоением погружался в белые ночи. Но бродил при этом с Женей Федоровым между бараками, и о чем-то мы говорили; а рядом с Зиной невозможно было даже думать о немузыкальном, не рождавшемся из тишины. Она слышала работу ума, не высказанную вслух, и говорила: «Не мешай мне». Приходилось замолчать внутренне и держать безмолвие, держать зеркало, в котором отражалось Присутствие. Я пишу это слово с большой буквы, чтобы избежать всяких слов о Святая Святых. Слов не было. Но Присутствие было.
Читать дальше