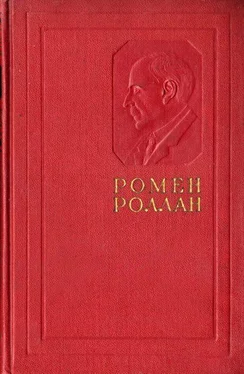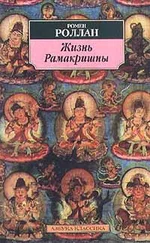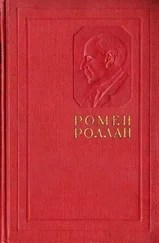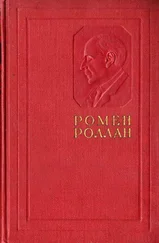Микеланджело стал помышлять о бегстве.
«Он думал искать приюта у любимца Юлия II и своего большого друга епископа Алерийского в одном аббатстве возле Генуи. Там, имея под рукой каррарский мрамор, он мог бы быстро закончить свою работу. Была у него также мысль удалиться в Урбино – мирный уголок, где, как он надеялся, к нему отнесутся хорошо в память Юлия II. С этой целью он даже послал одного из своих слуг купить там дом». [271]
Но когда надо было принять окончательное решение, у него по обыкновению не хватило духу: он испугался последствий своего поступка, как и всегда теша себя несбыточной надеждой на то, что удастся сговориться и уладить дело. И снова оказался в плену, из которого так и не мог вырваться до самой смерти.
Первого сентября 1535 г. посланием Павла III Микеланджело был назначен главным архитектором, скульптором и живописцем Ватиканского дворца. Еще в апреле предыдущего года он согласился писать «Страшный суд». [272]С апреля 1536 по ноябрь 1541 г., то есть во время пребывания Виттории в Риме, он был целиком поглощен этой работой. Трудясь над фреской, престарелый художник однажды сорвался с лесов и сильно повредил себе ногу. Это случилось, по-видимому, в 1539 г. «Изнемогая от боли и ярости, он отказался допустить к себе лекаря». [273]Микеланджело вообще не выносил врачей и обнаруживал в своих письмах комическое беспокойство всякий раз, когда узнавал, что кто-нибудь из домашних имел неосторожность обратиться за советом к врачу.
«На его счастье, флорентиец маэстро Баччо Ронтини, опытный и умный врач и большой его друг, узнав о приключившейся с художником беде, отправился к нему. Он долго стучал и, так как никто не отзывался, поднялся наверх и, пройдя по всем комнатам, попал, наконец, в спальню Микеланджело. Тот был в отчаянии, когда его увидел. Но Баччо наотрез отказался уйти и пробыл у друга вплоть до дня его выздоровления». [274]
Как некогда Юлий II, так теперь Павел III навещал Микеланджело, смотрел, как он пишет, и давал ему советы. Сопровождал папу обычно церемониймейстер Биаджо Чезена. Однажды папа спросил его, что он думает о фреске. Биаджо, который, по словам Вазари, был отъявленным ханжой, заявил, что считает в высшей степени неприличным изображать в столь святом месте целое скопище бесстыдно обнаженных тел. Такая живопись, добавил он, может служить украшением разве что бани или харчевни. Как только Биаджо ушел, возмущенный Микеланджело по памяти нарисовал его; он представил Биаджо в аду, в образе Миноса, окруженного полчищем чертей, с громадной змеей, обвившейся вокруг чресел. Биаджо пожаловался папе. Но Павел III поднял его на смех. «Если бы Микеланджело поместил тебя хотя бы в чистилище, я бы еще постарался тебя вызволить, – сказал папа, – но он запрятал тебя в ад, а там я бессилен – из ада нет спасения». [275]
Не один Биаджо считал живопись Микеланджело непристойной. Италия становилась чопорной, и недалек был тот день, когда Веронезе привлекут к суду инквизиции за вольность его «Пира у Симона-фарисея». [276]Нашлось немало людей, которые громко возмущались «Страшным, судом». И, разумеется, всех больше кричал Аретино. Мастер по части порнографии вздумал поучать нравственности целомудренного Микеланджело. [277]Он написал ему наглейшее письмо, достойное Тартюфа. [278]Не довольствуясь обвинением в том, что живопись Микеланджело «может вогнать в краску даже завсегдатаев дома разврата», Аретино по существу грозил донести на художника входившей в силу инквизиции, «ибо меньшее преступление самому не верить, нежели столь дерзко посягать на веру других». Он призывал папу уничтожить фреску, обличал Микеланджело в лютеранстве, пересыпая эту ложь гнусными намеками на нравы художника, [279]и в довершение всего утверждал, что тот обокрал Юлия II. Это подлое письмо шантажиста, [280]где все самое святое для Микеланджело – вера, дружба, честь – подвергалось поруганию и втаптывалось в грязь, это письмо, которое он не в силах был читать без презрительного смеха и слез унижения, Микеланджело оставил без ответа. Не случайно говорил он с уничтожающей иронией о некоторых своих врагах: «Стоит ли с ними бороться, не велика честь от такой победы!» И даже когда к суждению Аретино и Биаджо о «Страшном суде» стали прислушиваться, художник ничего не ответил, ничего не предпринял, чтобы пресечь клевету. Он молчал, когда его произведение обзывали «лютеранской гнусностью». [281]Молчал, когда Павел IV собирался сбить его фреску. [282]Молчал, когда, по приказанию папы, Даниелло да Вольтерра «одел» главные фигуры «Страшного суда». [283]Его спросили, что он об этом думает; Микеланджело сказал без гнева, но с оттенком насмешки и горечи: «Скажите папе, что это мелочь, которую очень легко поправить. Пусть его святейшество заботится о том, чтобы навести порядок в мире, а придать должный вид моей картине дело нехитрое». Он помнил, с какой горячей верой писал свое произведение, отрываясь от работы лишь для бесед о религии с Витторией Колонна, помнил, чем он обязан этой чистой душе. Он считал оскорбительным для себя защищать целомудренную наготу своих титанических героев от грязных подозрений и намеков лицемеров и подлецов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу