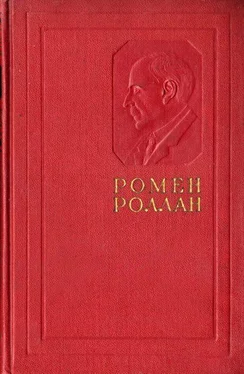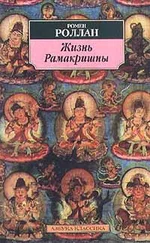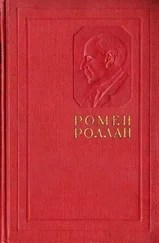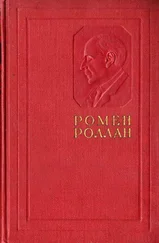* * *
Двадцать третьего сентября 1534 г. Микеланджело вернулся в Рим, где и оставался до самой смерти. [209]С тех пор как он уехал отсюда, прошел двадцать один год. За эти два десятилетия он сделал три статуи для незаконченного памятника Юлия II, семь незаконченных статуй для незаконченной же капеллы Медичи, не закончил отделку лестницы Лауренцианской библиотеки, не закончил «Христа» для церкви Санта-Мария-сопра-Минерва, не закончил «Аполлона» для Баччо Валори. Он потерял здоровье, энергию, потерял веру в искусство и в будущее родины. Потерял любимого брата, [210]потерял отца, которого боготворил. [211]В память отца и брата он изваял изумительную по красоте и силе скорби поэму, проникнутую жгучей жаждой смерти; как и все, что делал Микеланджело, она осталась незаконченной:
…Небо избавило меня от земной юдоли. Сжалься надо мной, мертвым еще при жизни!.. Ты умер для смерти и стал бессмертным; ты не должен больше опасаться изменчивости желаний и самого бытия (я пишу это и почти завидую…). Судьба и Время, несущие нам лишь ненадежные радости и верное горе, не смеют переступить ваш порог. Ни одно облачко не затеняет вам света; бег часов не властен над вами, равно как необходимость и случай. Никакой мрак не в силах погасить исходящего от вас сияния, а день, как бы ни был он ясен, ничего к нему не добавит… Своей смертью, дорогой отец, ты учишь меня умирать… Нет, смерть не худшее из зол для тех, чей последний день на земле будет первым и вечным днем у престола господня. Там, по милости божьей, я надеюсь и верю, что встречу тебя, если разум мой сумеет заставить мое хладное сердце отряхнуть с себя земной прах и если на небесах (среди прочих добродетелей) расцветает и истинно высокое чувство любви, связующее отца и сына. [212]
Итак, ничто не удерживает его больше на земле: ни искусство, ни честолюбие, ни привязанности, ни надежды. Ему шестьдесят лет, жизнь в сущности кончена. Он одинок, уже не верит в свои творения, призывает смерть и страстно желает избавиться, наконец, «от изменчивости желании и самого бытия», от власти «бега часов», тирании «необходимости и случая».
Увы! Увы! Я предан незаметно промчавшимися днями. Я ждал слишком долго… время пролетело, и вот я старик. Поздно раскаиваться, поздно раздумывать – у порога стоит смерть… Напрасно лью я слезы: какое несчастье может сравниться с утраченным временем…
Увы! Увы! Оглядываюсь назад и не нахожу дня, который бы принадлежал мне! Обманчивые надежды и тщеславные желания мешали мне узреть истину, теперь я понял это… Сколько было слез, муки, сколько вздохов любви, ибо ни одна человеческая страсть не осталась мне чуждой.
Увы! Увы! Я бреду, сам не зная куда, и мне страшно. И если я не ошибаюсь, – о, дай бог, чтоб я ошибался, – вижу, ясно вижу, создатель, что мне уготована вечная кара, ожидающая тех, кто совершал зло, зная, в чем добро, И я не знаю ныне, на что надеяться… [213]
I' me la morte, in te la vita mia. [214]
И когда он отрешился от всего, чем жил раньше, в опустошенном сердце пробились ростки новой жизни, вновь зацвела весна, чистым пламенем зажглась любовь. Но в ней уже не было почти ничего чувственного или эгоистического. Это – обожествление красоты, для чего какой-нибудь Кавальери был только поводом. Это – исполненная благоговения дружба с Витторией Колонна, проникновенное единение двух душ, нашедших себя в боге. Это, наконец, отцовская нежность к осиротевшим племяннику и племяннице, сострадание к бедным и слабым, святое милосердие.
Любовь Микеланджело к Томмазо деи Кавальери способна смутить ум обывателя, не только предвзято, но и не предвзято настроенного. Даже в Италии конца Возрождения это чувство могло быть истолковано превратно. У Аретино встречаются подобного рода гнусные намеки. [215]Но оскорбления людей, подобных Аретино, – а такие всегда найдутся, – не могут запятнать того, кто носит имя Микеланджело. «Они создают себе образ Микеланджело по собственному образу и подобию». [216]
Трудно сыскать человека большей душевной чистоты, чем Микеланджело. Трудно иметь более возвышенное представление о любви, чем было у него.
«Я часто слышал, как Микеланджело рассуждал о любви, – пишет Кондиви, – и те, кому доводилось присутствовать при этом, утверждали, что говорит он о ней, как Платон. Я, правда, не знаю, что говорил о любви Платон, но мне хорошо известно одно: за долгие годы близкого знакомства с Микеланджело я слышал от него лишь самые благородные речи, способные охладить чрезмерный пыл, порой овладевающий юношами».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу