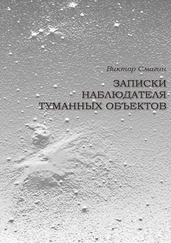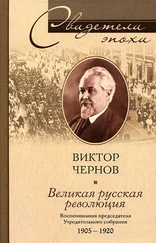И, конечно, антитеза мировых-торжеств и похмелий после пира — не исчерпывает всех ситуаций. Рядом с ней можно поставить и другую антитезу. Бывают эпохи, напоминающие безоблачные дни, когда недавно промчавшаяся буря очистила, освежила атмосферу, когда природа блещет нежащим покоем. Счастливы, на первый взгляд, люди, вступившие в жизнь под знаком такой светлой удовлетворенности в идеально нормальных условиях для первоначального развития! Ведь детство и юность так хрупки… Но не надо забывать, что в истории «даром ничто не дается», и мстительная, завистливая судьба «жертв искупительных просит». Поколения, взрощенные такими безоблачными временами, нередко вырастают чересчур размягченными и изнеженными, словно тепличные растения; момент пересадки в самый «грунт жизни» для них бывает критическим моментом, когда случайно подвернувшаяся непогода может навеки искалечить чуть не целое поколение, поразив его дряблой анемичностью и осудив не на жизнь, а на вялое прозябание. И бывают другие эпохи, — близкие кануны мировых драм, когда их предчувствием полна вся атмосфера. Нет еще ослепительного фейерверка событий, еще довольно времени для того, чтобы подготовиться к встрече грозы. Но уже волна неслышного, внутреннего подъема народной и общественной энергии властно захватывает своим течением всех и вся; это — эпохи, когда поветрием революции стягиваются в сферу ее магнитного притяжения самые разнообразные элементы; когда, по старому народному присловью, «резвенький сам набежит, а на тихонького Бог нанесет». «Рекрутский набор» революции в такие эпохи идет всего успешнее. За то, быть может, количеству не так соответствует качество. Там, где на стороне нового движения стоит и могучая в человечестве стихия стадности, и поверхностная мода, и даже заглядывающий в даль авантюристский карьеризм, там стан «чающих движения воды» получается слишком пестрый. Будущие перемены и превратности судьбы произведут в нем свой «отбор». Это — не то, что в глухие эпохи безвременья. Тут «экзамен» дан с самого начала, спайка прочнее, отбору почти нечего делать. Все «предопределенное» внутренними и внешними соотношениями читается ясно, как в раскрытой книге…
Таковы результаты моих «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет» за все время жизни, когда перед моими глазами сменился целый ряд вновь входящих «в строй» поколений, и когда приходится думать о том месте, которое занимает мое собственное поколение в пестром людском калейдоскопе, продолжающем развертывать свою бесконечную нить. Но не в горестный цвет окрашивается для меня это грандиозное целое — вмещающийся в узкие рамки личного бытия отрывок целого, еще более грандиозного. Радостное, горестное — здесь только подъемы и ниспадения отдельных волн на поверхности, изборожденной лабиринтом перекрещивающихся могучих океанических течений. И эти подъемы и ниспадения предстают — или, по крайней мере, ощущаются мною не как мутящая «мертвая зыбь», а как перемежающееся кризисами мощное развитие неугомонной стихии «живой жизни»…
Книга первая
В ГОДЫ БЕЗВРЕМЕНЬЯ
(1889–1899)
Сознательной жизнью я начал жить в конце восьмидесятых годов. Это было необыкновенно тусклое время. Кругом себя мы не видели никаких ярких фактов политической борьбы. Общество в революционном смысле было совершенно обескровлено. Оно было — словно тот «вырубленный лес», про который говорил поэт
Где были — дубы до небес,
Теперь — лишь пни стоят…
Жила только легенда о «социалистах» и «нигилистах», ходивших бунтовать «народ» и показывавших наглядно пример, как бороться со всеми властями и законами, божескими и человеческими — кинжалом, бомбами и револьверами. Романтический туман окутывал этих загадочных и дерзких людей. О них кругом вспоминали с обывательским осуждением, но вместе — с каким-то невольным почтением. И это действовало на молодую фантазию… Миф о «нигилистах» был жутко-притягивающим, — как миф о восставшем против Саваофа гордом ангеле, как о строителях Вавилонской башни… как о разбившемся на смерть Икаре.
Лично мне, росшему без матери, под ежедневным и ежечасным гнетом классической «мачехи» и убегавшему от ее нудных преследований на кухню, в «людскую», на берег Волги, в общество уличных ребятишек, — было так естественно впитывать в себя, как губка впитывает воду, любовь к народу, которою дышала поэзия Некрасова. Я знал его почти всего наизусть. Помню, какую боль причинила мне, четырнадцатилетнему мальчику, книжка какого-то реакционного журнала со статьей на тему «Разоблаченный Некрасов».
Читать дальше