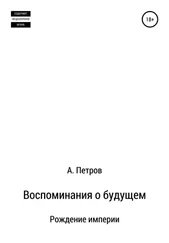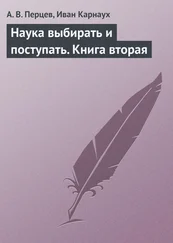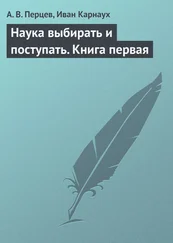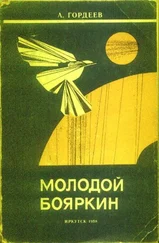Нет, право, куда ни посмотри, сплошь и рядом не соответствует теория О. Шпенглера историческим фактам. А ведь именно он написал более всего о влиянии географических факторов на характер и склад ума человека!
Если сливки плохи, то что же молоко?
Короче говоря, вроде бы есть все основания поставить жирный крест на попытках выводить философский менталитет из ландшафта.
И мы поставили бы этот крест, если бы…
Если бы сам Карл Ясперс не заявил, что созерцание родных ландшафтов сформировало его как мыслителя:
«Ничего, кроме неба, горизонта и того места, где я стою. Небо открывается во все стороны» [11] Jaspers K. Schicksal und Wille. Autobiographische Schriften. Hg. von H. Saner. Mьnchen, 1967. 2. Aufl. 1969. S. 16.
.
Вот вам, пожалуйста, и весь экзистенциализм — самостояние на фоне Всеохватывающего Бытия, иначе называемого Небом, которое становится ближе в определенных местах планеты.
Так что X. Занер, как и подобает верному ассистенту, всего лишь пересказывает своего наставника и патрона.
И вот еще что надо принять во внимание: вовсе не один только Карл Ясперс, но и другие весьма почтенные философы прямо заявляли, что природа родных мест повлияла на их стиль мышления. Сошлемся хотя бы на П. А. Флоренского:
«Мои позднейшие религиозно — философские убеждения вышли не из философских книг, которых я, за редкими исключениями, читал всегда мало и притом весьма неохотно, а из детских наблюдений и, может быть, более всего — из характера привычного мне пейзажа. Эти напластования горных пород и отдельности, эти слои почвы, постепенно меняющиеся, пронизанные корнями, этот слой дерновины, их покрывающий, кусты и деревья над ними — я узнал оних не из геологических атласов, а из разрезов и обнажений в природе, к которым привык, как к родным. <���…> Я привык видеть корни вещей. Эта привычка зрения потом проросла все мышление и определила основной характер его — стремление двигаться по вертикали и малую заинтересованность в горизонтали» [12] Флоренский Павел, священник. Детям моим. Воспоминанья прошлых дней. Генеалогические исследования. Из Соловецких писем. Завещание. М., 1992. С. 99.
.
Так и хочется навести справки, не выросли ли Ж. Делез и Ф. Гваттари в степи, подобно Чингисхану: ведь они с такой страстью противопоставляют образу глубоких древесных корней ризому, то есть сплетенные вместе, неглубокие, распространяющиеся вширь корни травы? Может быть, они и деревьев‑то в юности не видали? Только степь да степь кругом… Отсюда поверхностность… А что бы стало с ними как мыслителями при виде баобаба?
* * *
Шутки — шутками, но ведь надо понять, почему разные мыслители рассуждают — и вполне серьезно рассуждают! — о роли пейзажей в становлении своей философии.
Когда П. А. Флоренский всячески подчеркивал влияние природы на формирование своего мышления, он хотел выступить против засилья всего искусственного, надуманного в культуре. Но — если присмотреться! — разве сама природа противопоставлялась у него всему городскому, искусственно надуманному и наделанному? Нет, под природой у него подразумевались вовсе не дикие дебри, а село, в котором человек ведет природосообразный образ жизни. И когда российские писатели — «деревенщики» XX века — звали вернуться к природе, к здоровому естеству, то имели они в виду вовсе не картины звериной жизни в таежной чащобе, а милое их сердцу село с церковью на пригорке.
Здесь надо зафиксировать нечто важное: бесчеловечной городской культуре противопоставляется не «натура» в первобытном виде — нет, под «природой» подразумевается культура вчерашняя, которая противопоставляется культуре сегодняшней. Село — это природа, а город — культура и цивилизация.
А ведь село, представляющееся сегодня той самой «природой», на которую горожанин едет отдыхать в отпуск и в выходные, когда‑то — всего пару веков назад — показалось бы верхом цивилизации и оплотом передовой культуры. Шутка ли — там есть даже водопровод!
Но времена меняются быстро, и «природа» меняется вместе с ними.
Решимся на афоризм: то, что было культурой вчера, сегодня — всего лишь природа.
И, стало быть, никакой природы «самой по себе» давно уже нет, — если не говорить о каких‑нибудь глухих таежных дебрях или отдельных антарктических ледниках.
«Природа» — это всего лишь культурный шифр, обозначение культуры позапрошлых веков.
Можно было бы на этом и закрыть тему, сказав:
Читать дальше
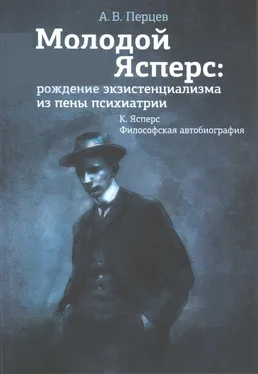
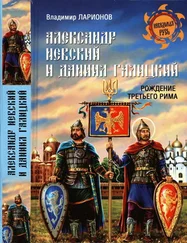



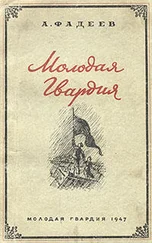
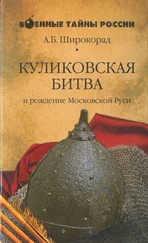
![Александр Дроздов - Эликсир. Новое рождение [СИ]](/books/415167/aleksandr-drozdov-eliksir-novoe-rozhdenie-si-thumb.webp)