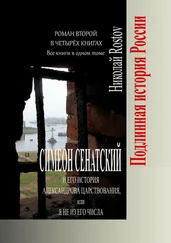26-го января 47-го года я писал моей матери в концлагерь (это письмо вместе с другими письмами ей при выходе на свободу разрешили взять с собой, и оно у меня сохранилось):
…не думаю, чтобы твое самочувствие в основном резко отличалось от моего и от самочувствия моих друзей.
У нас и впрямь было такое ощущение, словно мы в концлагере. Мы обнесены незримой колючей проволокой. Охранников мы встречаем на каждом шагу: и в электричке, и в метро, и на улицах, и в форме, и в штатском. Во всех учреждениях с провокационными разговорами к нам подсыпаются стукачи…
Время от времени страх налетал на нас порывами, слепил глаза молниями, бросал в дрожь ударами грома. Но жил в нас иной страх – будничный, повседневный, тихий, уже привычный.
Мы с Колей Богословским признались друг другу, что всякий раз торопимся получить причитающийся нам гонорар. А вдруг арестуют? Пусть хоть какое-то время у семьи будут деньги.
Летом, приезжая с дачи в Москву, я старался покончить со всеми делами в один день: закупить на неделю продуктов и обегать несколько издательств. Только не ночевать в Москве! Если за мной приедут на дачу, я смогу проститься со спящими детьми. И как я ни старался уговаривать себя: за что же, собственно, меня сажать-то? – не только чувства, но и разум мне не повиновались. А за что других? Захотят – повод найдут.
Во мне жила еще одна разновидность страха. В ту минуту, когда я узнал об аресте матери, во мне вновь поселился страх изгоя. Я боялся боязни знакомых. Я, бывший ссыльный и сын заключенной, боялся бросить на них тень. Боялся, что меня будут сторониться, и начал сторониться первый. Еще больше боялся, что иные не покажут вида, а подумать все-таки подумают: «Как бы чего не вышло?..» И этих я обегал. Круг моих знакомых сузился до размеров кружочка. Но кружочек этот единомыслил.
Один из моих друзей, бывший социал-демократ, хороший переводчик испанской классической драматургии Михаил Матвеевич Казмичов скупыми, но яркими красками нарисовал картину нашей «житухи» при большевиках и, внезапно сверкнув своими черкесскими глазами, в азарте полемики с воображаемым противником, воскликнул:
– А, да что там! Генерал Шкуро – это ангел в сравнении… даже с Луначарским!
Мы оба покатились со смеху, но потом пришли к выводу, что эта сверхгипербола все же заключает в себе крохотную долю горестной истины.
Над нами властвовала животная сила привычки к месту. Мы до сладостных слез любили русскую землю, русскую речь, но каждый грядущий день готовил нам новые доказательства правоты капитана Студзинского из «Дней Турбиных»:
– Какое же отечество, когда большевики… когда они Россию прикончили?
Мы утешали себя тем, что Царь Ирод не вечен.
Вдруг в душе просветлеет, только услышишь, что через такие-то деревни гнали пленных немцев и бабы выносили им поесть.
Пленных немцев я увидел впервые» когда летом 45-го года приехал в Новинку. Там они паели колхозное стадо. Были очень деятельны и добросовестны. Они смотрели на стадо как на войско, которому надо указывать наиболее выгодную позицию – где погуще травка. То и дело слышались щелканье кнутом и командирские окрики:
– Хальт» зараза!
Собираясь на прогулку, я каждый раз брал табаку и папиросной бумаги на долю пленных. При встрече угощал их. Они хорошо улыбались, доверчиво и благодарно, говорили:
– Зпазыбо, зпазыбо!
В этих немцах ничего зверского я не углядел.
Я не читал газетных отчетов о Нюренбергском процессе.
Только ОГПУ могло мне, чья дух и плоть восставали против смертной казни еще в отроческие годы, пришить пособничество к террору. У меня бы рука не поднялась подписать смертный приговор даже убийцам Александра Второго и последних Романовых, даже Ленину, Троцкому и Зиновьеву, даже Дзержинскому, Менжинскому и Крыленко, даже Ягода, Ежову и Вышинскому, даже Гитлеру и Гиммлеру, даже Сталину и Берия. Но раз смертная казнь существует, то учредители нацистских концлагерей, равно как и идейные их вдохновители, заслуживают именно этой, самой страшной меры наказания. «Только как же вам не совестно, господа американцы и англичане, – мысленно обращался я к нюренбергскому синедриону, – заседать вкупе и влюбе с посланцами советских истязателей? Они-то какое имеют право судить? И уж если вы приговариваете к смертной казни приспешников Гитлера, то уж тогда, будьте любезны, вздерните на виселицу Сталина и его клику. А иначе – где же справедливость? История рано или поздно признает ваш суд судом неправым, а вас – судьями неправедными».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
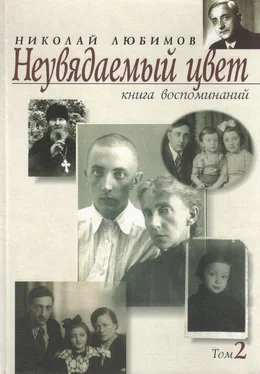



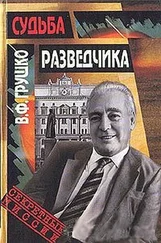




![Эльке Хайденрайх - Все не случайно [Книга воспоминаний]](/books/409846/elke-hajdenrajh-vse-ne-sluchajno-kniga-vospominan-thumb.webp)