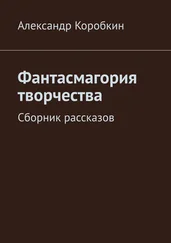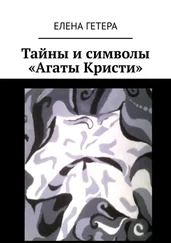«Зимние карикатуры» Вяземского были опубликованы в альманахе «Денница» на 1831 год; пушкинские «Бесы» — в «Северных цветах» на 1832 год. Тогда же, в упоминавшемся «Русском альманахе…» появилась «Тройка» Ф. Глинки. А в конце 1833 года Вяземский передал для альманаха «Новоселье» стихотворение «Еще тройка» («Тройка мчится, тройка скачет…»). Его стих (четырехстопный хорей с перекрестной рифмовкой) повторял стих пушкинской «Зимней дороги» и «Бесов», а основные «троечные» мотивы и атрибуты представали в неожиданном облике. В новом представлении «тройки» наконец-то возникал и «путник». Но возникал в лунном свете: в противовес пушкинским «Бесам», где луна присутствует «невидимкою», здесь «месяц», кажется, готов раскрыть «лицо» этого путника: «И посыпал снег зыбучий // Прямо путнику в лицо…»
Но не тут-то было: дальнейшая серия риторических вопросов демонстрирует, что нам так и не «узнать» этого, на миг освещенного месяцем путника, моментально проносящегося в житейском калейдоскопе явлений:
Кто сей путник? и отколе?
И далек ли путь ему?
По неволе иль по воле
Мчится он в ночную тьму?
Образ лирического «я» («путника») здесь менее значим и менее интересен, чем собственно «тройка», «кони», «дорога», «ямщик» и, конечно же, «колокольчик». Из всех известных «Троек» русской поэзии разве что в «Тройке» H. A. Некрасова (1846) этот «путник» хоть как-то охарактеризован:
На тебя, подбоченясь красиво,
Загляделся проезжий корнет…
Но это — и все: ничего иного о каких-то нравственных качествах «проезжего корнета» мы никогда не узнаем. Субъект путешествия становится принципиальным «незнакомцем», проезжающим «мимо» настоящей жизни. Дела и думы его ничтожны — хотя бы в сравнении со звоном колокольчика.
«Колокольчик однозвучный…»
В «Начале автобиографии» Пушкин подробно рассказывает о жизни своего прадеда Абрама Петровича Ганнибала и, сообщая о гонениях, которые постигли «царского арапа» после смерти Петра Великого, вставляет в рассказ следующую деталь: «До самой кончины своей он не мог без трепета слышать звон колокольчика» (XII, 312).
Деталь эта явно недостоверна и, несомненно, выдумана Пушкиным на основе собственного житейского опыта — равно как и «колокольчик Пугачева» в «Капитанской дочке» (VIII, 354). Дело в том, что ни при Ганнибале, ни во времена пугачевского восстания колокольчиков в России еще не было — тем более так называемых «фельдъегерских» колокольчиков, предвещающих беду… Поддужный колокольчик в государственном и почтовом обиходе пушкинского времени заменил прежний рожок, загодя извещавший об очередном приезде почты. Самый ранний из известных нам валдайских колокольчиков датируется 1802 годом — ранее последних десятилетий XVIII в. колокольчик вряд ли мог появиться и в личном обиходе помещиков. В пушкинские же времена «колокольчик» выступает как яркая знаковая деталь именно личного, поместного обихода:
Кто долго жил в глуши печальной,
Друзья, тот, верно, знает сам,
Как сильно колокольчик дальный
Порой волнует сердце нам.
Граф Нулин
Здесь колокольчик воспринят как знак «предвещания», символ счастливой и неожиданной встречи. Символ «приключения», наконец — «Для барышни звон колокольчика есть уже приключение…» (VIII, 110). Н. Я. Эйдельман обратил внимание на то, что колокольчик как знак сопровождал Пушкина всю его жизнь: «Колокольчик — это дорога, заезжий друг; колокольчик — это страх, предписание… <���…> Колокольчик загремит у Михайловского и в ночь с 3 на 4 сентября 1826 года: фельдъегерь, без которого „у нас, грешных, ничего не делается“, привозит свободу, с виду похожую на арест. Колокольчик увез Пушкина в Москву, вернул в Михайловское, затем — в Петербург, Арзрум, Оренбург — и провожал в последнюю дорогу…» [90] Эйдельман H.: Пушкин: История и современность в художественном сознании поэта. М., 1984. С. 344.
.
И Пушкин (в «Зимней дороге»), и Вяземский (в «Дорожных думах») сразу же определили одну характеристическую черту колокольчика в одинаковой строке: «Колокольчик однозвучный ». Эта «однозвучность», как родовое качество музыкального инструмента (колокольчик способен издавать только один звук) — черта не только «надоедливая» («утомительно звенит», «гудет уныло под дугой»), это и деталь, определяющая каждый колокольчик как индивидуальность. У того же Пушкина можем отыскать указания на особое звучание «почтовых», «дилижансных» и «фельдъегерских» колокольчиков (VIII, 97) — если первые несут новую весть или новые впечатления, то последний является знаком беды… Есть даже указания на некие индивидуальные звучания колокольчика, прямо указывавшие (уже звоном своим), кто именно едет: «Народ узнал колокольчик Пугачева и толпою бежал за нами» (VIII, 354); «Чу! колокольчик, слава Богу, это исправник» (VIII, 218).
Читать дальше
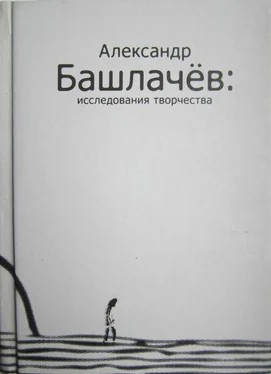



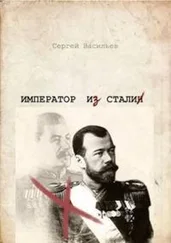

![Сергей Васильев - Редкий талант [СИ]](/books/426368/sergej-vasilev-redkij-talant-si-thumb.webp)
![Сергей Васильев - Построить дом [СИ]](/books/426373/sergej-vasilev-postroit-dom-si-thumb.webp)
![Сергей Васильев - Поймать огнецветку [СИ]](/books/426374/sergej-vasilev-pojmat-ognecvetku-si-thumb.webp)