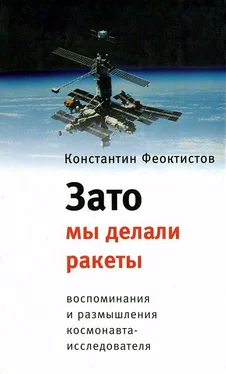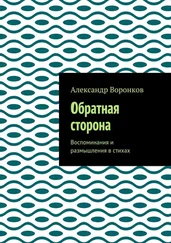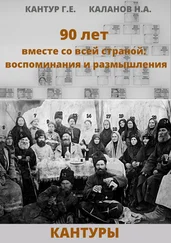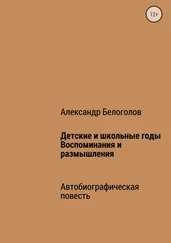Во-вторых, инженеры, врачи и другие специалисты, работавшие в области пилотируемых полетов, научились делать космические корабли и орбитальные станции, обеспечивать жизнь человека в условиях полета. Они получили в свое распоряжение заводы, деньги, построили испытательные стенды, центры связи и управления, научились управлять этими полетами. Получили экспериментальный материал для реализации возможностей человека жить и работать в условиях невесомости и созданных им космических кораблей и станций.
Но этот опыт и знания носят, так сказать, инструментальный характер. Этот опыт и знания нужны для того, чтобы на орбите выполнять работу, наблюдения, исследования в интересах нанявших их налогоплательщиков. Но эти наблюдения, исследования пока не принесли людям ни материальной пользы, ни новых возможностей для производства, экономики, ни новой информации о мире, в котором мы живем. Вот автоматические космические аппараты связи и ретрансляции телевизионных передач, контроля поверхности Земли, навигационных измерений, астрофизических исследований звезд и галактик принесли и прикладную конкретную пользу, и новую информацию. Обидно это сознавать, но это так. Я не утверждаю, что и впредь толку от пилотируемых полетов будет как от козла молока. Можно говорить о том, что мы действовали слишком примитивно и до сих пор не добились того, чего хотели: открыть для людей на орбите новую сферу деятельности. Пока мы даже не поняли, в какой области работы на орбите человек может оказаться настолько эффективен, чтобы затраты на его полет оправдывались.
Какую роль в этом деле сыграли сами космонавты? Да никакой. Правда, они резонно могут возразить, что во время полета делали то, что им поручали, а иногда и больше. Действительно, не вооруженные идеями, инструментами они и не могли сделать что-то полезное ни для посылавших их инженеров, ни для людей вообще. А сами они этих идей генерировать не могли и обвинять их за это нельзя.
Но вот с чем пришлось столкнуться. Одной из важнейших «инструментальных» задач первых десятилетий космических полетов была оценка границы длительности безопасного пребывания и работы человека на орбите в условиях невесомости, в условиях жизни и работы на космических кораблях и орбитальных станциях. На животных такой эксперимент ставить практически невозможно: они не могут отринуть сигналы непрерывного падения и качки, не могут убирать свои испражнения, не могут выполнять физические упражнения. Многого они не могут. Поэтому практически оценить допустимые сроки пребывания человека на орбите можно только в прямых экспериментах в самих пилотируемых полетах с постепенным наращиванием длительности полета. Конечно, это опасный и жестокий способ, но другого мы найти не смогли. В таких экспериментах, начавшихся примерно с семидесятого года, космонавты рисковали своей жизнью. Кстати, американцы пошли по тому же пути: длительность их первой экспедиции на станцию «Скайлаб» была около месяца, второй — около двух, а третьей — около трех месяцев.
Когда мы начали увеличивать продолжительность полета, то натолкнулись на решительное противодействие космонавтов. Можно было понять первых космонавтов, летавших всего по нескольку дней: период адаптации к невесомости, как правило, продолжается от одного до пяти-семи дней. И в этот период большинство чувствует себя, мягко говоря, не комфортно. Поэтому утверждения типа «уже пять суток — на пределе выживания» можно понять. Но потом, когда выяснилось, что после окончания периода адаптации вроде бы уже можно жить и работать более-менее нормально, возражения против наращивания продолжительности полетов становились все более категоричными. Опять же можно было понять Елисеева. Он в то время был и руководителем полета, и отвечал в нашем КБ за состояние и работоспособность экипажа станции, и ощущал себя кем-то вроде представителя профсоюза космонавтов, обязанного заботится об их здоровье, их интересах. Но сами-то космонавты неужели не помнили о том, что никто их не агитировал и не тащил на эту работу, никто не заставлял идти на риск. Это профессиональный риск, связанный с тем, что они взялись быть первопроходцами. Не все, конечно, возражали. Некоторые проявили настоящий профессионализм. Но их оказалось мало.
Ощущали ли они себя первопроходцами? Да! Само собой! В застольях и на митингах слова эти часто произносились. Другое дело осознание, куда шли первыми и зачем? А что касается славы, так это, понятно, — плата за риск.
Читать дальше