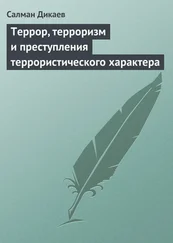Уже в Москве, на работе в иностранном отделе в 1928 году, во мне возникали сомнения в правильности той политики, которая проводилась в то время советским правительством. Получаемые из СССР письма были полны жалоб на методы, применяемые Центральным Комитетом партии по проведению пятилетки. В одном из писем от моих партийных товарищей писалось: «Методы нашей работы и темп жизни для нас сейчас не новый. Это — копия эпохи военного коммунизма минус революционный энтузиазм». Особенно меня поражало, что даже наиболее ответственные работники не могли открыто выражать своих мыслей. Я вскоре лично убедился, что каждое неосторожное слово, не соответствующее политике Центрального Комитета, влечет за собой немедленные репрессии. Открыли мне глаза два случая. Риольф, сотрудник ИНО, вздумавший защищать троцкиста Оссовского, немедленно был уволен из органов. Но особенное впечатление произвела на меня история сотрудника Наркоминдела Шохина.
Шохин, по происхождению крестьянин, до 1921 года служил в Красной Армии. Состоя в коммунистической партии с 1918 года, он самоотверженно боролся на фронте за советскую власть. Затем его перевели на работу в Наркоминдел. Он служил со мной два года в Тегеране на должности шифровальщика. Это был честный человек, работавший круглые сутки и глубоко преданный социализму. Из Тегерана его откомандировали в СССР по болезни. Получив отпуск, он поехал в деревню к старикам родителям. Это было в середине 1928 года, когда началась «пятилетка». Приехав из деревни в Москву, Шохин пришел ко мне и рассказал ужасные вещи о положении крестьян. Борьба с кулачеством довела деревню до полного разорения. Даже крестьянские хозяйства, имевшие одну лошадь и две коровы, считались кулаческими и ревизировались…
Спустя некоторое время после приезда Шохин выступил на собрании Наркоминдела с докладом о деревне и требовал назначения суда и следствия над переусердствовавшими местными властями. Не прошло недели после этого выступления, как Шохина исключили из партии, а затем вообще сняли с работы. Тут я понял, почему мои товарищи в частных беседах говорят одно, а на партийных собраниях другое. И чем меньше они верили, тем больше и длинней говорили, может быть стараясь самих себя убедить собственным словесным потоком. Мои сомнения, видимо, были замечены ячейкой ОГПУ. Меня начали загружать докладами на всевозможные темы, чтобы по моим выступлениям выявить, нет ли у меня уклонов. Я, видимо, выдержал экзамен. Вскоре меня зачислили в так называемый партийный актив.
Однако, читая в Стамбуле информационные сводки ОГПУ, я все более убеждался в том, что народное хозяйство разрушается и гибнет, пока наверху идет драка за власть. В частных письмах мне сообщали, что положение все более ухудшается, что приближается новый, 1931 голодный год. Постепенно становилось ясно, что в создавшемся положении виноваты не отдельные личности, но вся система управления. Зрела мысль о борьбе с руководителями преступной политики. Ехать обратно в СССР и начать там открыто выступать — это значило в лучшем случае сесть куда-нибудь в концентрационный лагерь.
Я решил ехать на Запад. Работать при таких условиях я уже не мог и после отъезда Аксельрода почти прекратил свою разведывательную деятельность.
Москва, не подозревая о происшедших во мне переменах, продолжала присылать задание за заданием. Надо было что-то предпринимать. В Турции я оставаться не мог: с одной стороны, я подвергал себя преследованиям советской власти, а с другой — мог попасть под удары турецкого правительства (на территории которого я вел разведку). В апреле я обратился в одну из иностранных миссий в Константинополе с просьбой разрешить мне въезд в ее страну и сообщил, кто я такой. Мне предложили подождать ответа из столицы. Приблизительно в то же время я получил сведения от моего агента Гюмишьяна, что за мною следит турецкая полиция. Я не обратил на это внимания и продолжал ждать…
Наконец, в июне мне передали из персидского консульства, что турецкая полиция усиленно интересуется мною и даже будто бы собирается меня арестовать. К этому времени начатые мною записки были готовы. Ждать больше было нельзя. По рекомендации персидского консульства я, как честный купец, получил визу во Францию.
Еще два дня на сборы, и в четверг 19 июня я погрузился на пароход «Тадла», шедший в Марсель. Еще вчера я имел свидание с Этингоном-Наумовым, который передал мне, что Москва удивляется моему длительному молчанию и требует присылки материалов. Я обещался встретиться с ним в субботу и передать почту для Москвы. Сегодня я уже на пароходе. Еще несколько минут — и прощай Стамбул с твоими прекрасными берегами и всем пережитым мною здесь за эти девять месяцев. В субботу вечером, когда Наумов будет ждать меня на мосту Галаты с почтой для Москвы, я уже буду у Неаполя.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
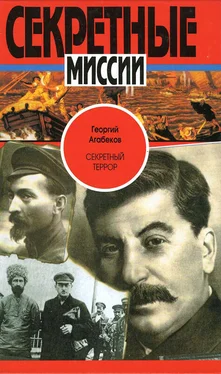





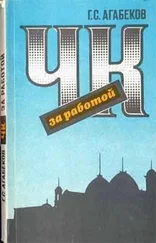
![Георгий Агабеков - ГПУ [Записки чекиста]](/books/418001/georgij-agabekov-gpu-zapiski-chekista-thumb.webp)