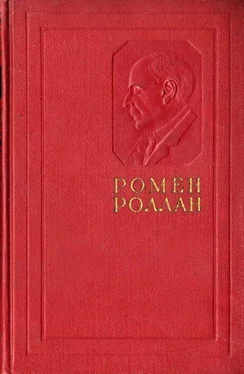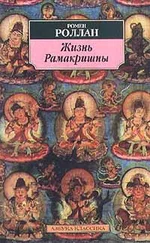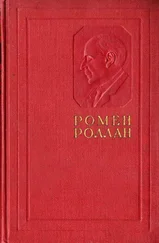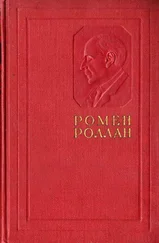Подобно музыкальным антрактам в драме, среди батальных сцен широкими полосами света проходят картины природы, целая симфония солнечного восхода, озаряющего прекрасную землю и агонию тысяч людей, которые мучаются и умирают. Христианин Толстой, позабыв патриотизм, наполняющий его первый рассказ, проклинает безнравственную войну.
«И эти люди – христиане, исповедующие один великий закон любви и самоотвержения, глядя на то, что они сделали, не упадут с раскаянием вдруг на колени перед тем, кто, дав им жизнь, вложил в душу каждого, вместе с страхом смерти, любовь к добру и к прекрасному, и со слезами радости и счастья не обнимутся, как братья?» Заканчивая этот рассказ, вынося свой приговор с небывалой дотоле суровостью, Толстой усомнился, не напрасно ли он высказался:
«…тяжелое раздумье одолевает меня. – Может, не надо было говорить этого. Может быть, то, что я сказал, принадлежит к одной из тех злых истин, которые, бессознательно таясь в душе каждого, не должны быть высказываемы, чтобы не сделаться вредными, как осадок вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его. Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все дурны».
Но тут же он с гордостью спохватывается:
«Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, – правда».
Прочитав эти страницы, [55]редактор «Современника» Некрасов написал Толстому:
«Это именно то, что нужно теперь русскому обществу: правда – правда, которой со смертию Гоголя так мало осталось в русской литературе… Эта правда в том виде, в каком вносите Вы ее в нашу литературу, есть нечто у нас совершенно новое… боюсь одного, чтобы время и гадость действительности, глухота и немота окружающего не сделали с Вами того же, что с большею частью из нас: не убили в Вас энергии…» [56]
Опасения эти были напрасны. Время, которое истощает энергию людей заурядных, только закалило Толстого. Но в момент написания рассказа Толстой как патриот мучительно переживал падение Севастополя и все те испытания, которые выпали на долю его родины, и раскаивался в своей чрезмерной откровенности. В третьем рассказе, «Севастополь в августе 1855 года», описывая ссору офицеров за карточной игрой, он, внезапно прерывая повествование, говорит:
«Но опустим скорее завесу над этой глубоко-грустной сценой. Завтра, нынче же, может быть, каждый из этих людей весело и гордо пойдет навстречу смерти… На дне души каждого лежит та благородная искра, которая сделает из него героя…»
Однако эта сдержанность не умаляет силы реализма Толстого; сам выбор персонажей показывает, кому именно он сочувствует. Героическая эпопея защиты Малахова кургана символически выражена в трогательных и гордых образах двух братьев, из которых старший, капитан Козельцов, имеет некоторое сходство с автором, [57]а второй, юнкер Володя, застенчивый и восторженный, любящий высокопарные выражения, мечтательный, нежный, впечатлительный до того, что слезы по любому, самому пустячному поводу увлажняют его глаза, в первые часы пребывания на бастионе подавлен равнодушием окружающих и мучится ребяческим страхом (бедняжка боится всего, даже темноты, и, засыпая, прячет голову под шинель); когда же наступает решительная минута, он с упоением бросается навстречу опасности. Этот образ поэтического юноши не раз встречается в произведениях Толстого (Петя в «Войне и мире», прапорщик в «Набеге»), Юноша, почти мальчик, с сердцем, преисполненным любовью, как бы играет в войну и гибнет внезапно, даже не успев понять, что смерть настигла его. Оба брата Козельцовы убиты в один день – в последний день обороны. Рассказ заканчивается гневными строками, преисполненными патриотизма.
Армия покидала Севастополь. «Почти каждый солдат, взглянув с Северной стороны на оставленный Севастополь, с невыразимою горечью в сердце вздыхал и грозился врагам». [58]
Когда в ноябре 1855 г. после того ада, где в течение долгих месяцев Толстой наблюдал борьбу человеческих страстей, тщеславия и страдания, он попадает в Петербург, в среду литераторов, эта среда глубоко возмущает его. Он даже начинает презирать своих собратьев, в которых все казалось ему мелочным и фальшивым. Люди эти, издали представлявшиеся Толстому небожителями, в частности Тургенев, искусство которого так пленяло его и которому он только что посвятил «Рубку леса», жестоко разочаровали Толстого при личном знакомстве. Существует фотография 1856 г., где Толстой снят вместе с писателями, находившимися тогда в Петербурге: Тургеневым, Гончаровым, Островским, Григоровичем, Дружининым. Поражает, в сравнении с их непринужденным видом, аскетический, суровый облик Толстого: щеки запали, лицо осунулось, руки напряженно скрещены. Стоя позади своих старших товарищей, Толстой, в военной форме, «кажется, – по остроумному замечанию Сюареса, – скорее стражем этих людей, чем равным среди равных; можно подумать, что он сейчас отведет их в тюрьму».
Читать дальше