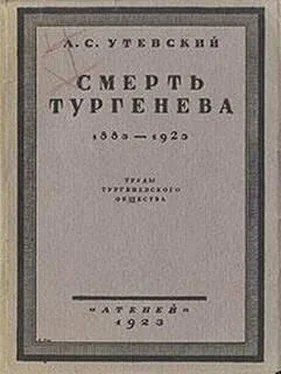Один из лучших парижских врачей Jaccoud, к которому Тургенев, по совету д-ра Белоголового, обращается в конце июня, так же, как и Шарко, признает болезнь за грудную жабу, но прописывает строгое молочное лечение [20] Письмо к Ж. А. Полонской от 25 июня 1882 г.; см. также воспоминания Н. А. Белоголового — «Новости» 1883 г., № 158
. С этого времени больной начинает ежедневно потреблять огромное количество молока.
Душевное состояние его представляет картину, полную безотрадности. «Бодрость духа во мне исчезла» — пишет он теперь [21] М. Г. Савиной —19/7 июня 1882 г.
— «человек я похеренный». Не то, чтобы он думал, что болезнь грозит ему скорой смертью. Напротив, он полагал, что жить может с ней много лет, но только «начинал убеждаться», что болезнь неизлечима. Он старается привыкнуть к этой мысли, примириться с безысходностью положения. «Личная жизнь моя прекратилась» — пишет он, — «это голый факт».
Такое настроение, конечно, нисколько не удивительно. Быть осужденным на неподвижность, когда кругом все зелено, все цветет, когда в голове столько планов и литературных, и всяческих, когда тянет в родное Спасское, а об этом нельзя и подумать, конечно, не легко. И грустные нотки появляются все чаще. «Когда будете в Спасском — пишет он 30-го мая 1882 года Я. П. Полонскому, — поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу — родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу».
* * *
Эти глубоко трогательные строки поразительно напоминают то поэтическое, обвеянное предсмертной грустью, место «Дневника лишнего человека», в котором несчастный Чулкатурин, расставаясь с жизнью, прощается с родной природой:
«О, мой сад, о, заросшие дорожки возле мелкого пруда! о, песчаное местечко под дряхлой плотиной, где я ловил пескарей и гольцов! И вы, высокие березы, с длинными висячими ветками, из-за которых с проселочной дороги, бывало, неслась унылая песенка мужика, неровно прерываемая толчками телеги — я посылаю вам мое последнее прости!.. Расставаясь с жизнью, я к вам одним простираю мои руки. Я бы хотел еще раз надышаться горькой свежестью полыни, сладким запахом сжатой гречихи на полях моей родины; я бы хотел еще раз услышать издали скромное тяканье надтреснутого колокола в приходской нашей церкви; еще раз полежать в прохладной тени под дубовым кустом на скате знакомого оврага; еще раз проводить глазами подвижный след ветра, темной струею бегущего по золотистой траве нашего луга…» («Дневник лишнего человека» [22] Собр. соч., стереот. текст изд. Глазунова, т. V, стр. 214
).
Кто говорит это — «лишний» Чулкатурин или умирающий Тургенев? Это прощание, по своему настроению, так гармонирует с состоянием души писателя во время предсмертной болезни, что его вполне можно было бы принять за строки из письма к кому-либо из близких друзей. Как-будто Тургенев вложил в него частицу тех переживаний, которые выпали на его долю через 33 года.
* * *
В июле здоровье великого писателя как-будто начинает поправляться. Сообразно с этим, и пессимизм его принимает более светлые тона. Себя он называет «приросшей к здешнему месту устрицей, которую даже съесть нельзя» [23] Письмо к Я. П. Полонскому от 17 июля 1882 г. («Перв. Собр. Пис.», 457)
. От молочного ли лечения (которое вновь ему прописал, посетивший его в это время, по просьбе Полонских, д-р Бертенсон [24] См. «Медицинск. Вестник» от 3 сент. 1883 г., № 36
, или это было естественным ходом болезни, но облегчение наступило [25] «Здоровье мое действительно поправляется, — писал Тургенев 28-го августа 1882 г. Анненкову, — но прогресс так медлителен, что заслужил бы одобрение самого Каткова!»
. Боли стали значительно слабее, он получил возможность стоять и ходить в продолжение десяти минут, спокойно спать по ночам, спускаться в сад, даже «литературная жилка в нем зашевелилась». В этот период написана им «Клара Милич» [26] «Благодаря некоторому облегчению моих недугов — писал он 18/6 сентября 82 г. М. Г. Савиной, — мне удалось написать довольно большую повесть — по содержанию почти безумную» («Тургенев и Савина», стр. 54)
.
Состояние улучшения продолжалось несколько месяцев.
В первое время после его наступления Тургенев делается бодрее. Надежда его теперь не оставляет, он надеется зимой переехать в Петербург и будущее лето провести в Спасском. В то же время у него появляется какое-то своего рода смирение. Он «ничего уже от жизни не требует, кроме отсутствия, по мере возможности, страданий». «Главный интерес дня — вечерний вист; иногда немножко музыки. Самый лучший режим для той устрицы, в которую я превратился» [27] Письмо к Ж. А. Полонской от 4 августа 1882 г.
.
Читать дальше