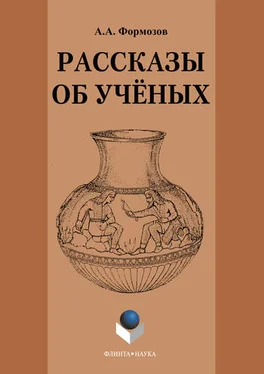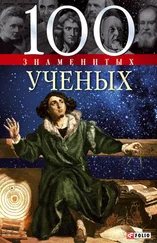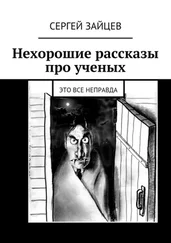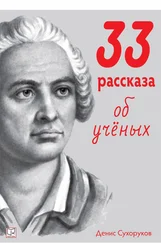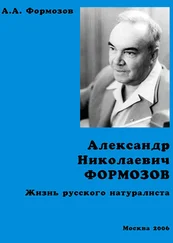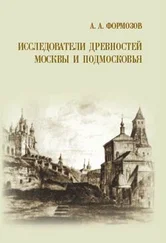Двадцать лет спустя в мемуарной «Автомонографии» Игорь Эммануилович Грабарь отдавал должное Рериху как художнику; признавал, что он был «блестяще одарён» и создал «настоящее, бесспорное большое искусство, покорившее даже скептика Серова». Но, отмечалось тут же, в «Мире искусства» его «органически не переносили»; не прощали ему связей со Стасовым и ярым пропагандистом великодержавного шовинизма Микешиным; ставили ему в вину карьеризм, неискренность, позёрство и перед коллегами, и перед власть имущими, и перед поклонниками оккультных наук, «рассчитанное на уловление зрителя, читателя, потребителя» [128].
Эта характеристика не была обусловлена тем, что Грабарь писал в 1937 году о человеке, находящемся в эмиграции. О Бенуа он вспоминал там же и с уважением, и с любовью. Нет, тут отзвук давних разногласий внутри «Мира искусства». Рерих не остался чужд этому кругу. Он даже учился в той же гимназии Мая, что и Бенуа, Философов и Сомов; вместе с ними выступал против эпигонов академизма, вроде Боткина; как и они, обращался в своём творчестве к искусству прошлого, но здесь единомыслие и кончалось. Рерих готов был восхищаться любыми «своими» древностями вне зависимости от подлинных достоинств этих памятников. Эстетический вкус Бенуа и Грабаря оставался беспристрастен и строг [129].
И далеко не случайна ненависть к Бенуа, прорвавшаяся в последних письмах к В.Ф. Булгакову семидесятитрехлетнего Рериха, кажущегося нам таким просветлённым и умиротворенным буддийским мудрецом. «Версальские рапсоды уже не будут похулять всё русское». «Всякие рапсоды Версаля поносили нас и глумились о «наследии чуди и мери». Злобные глупцы! Прошли годы, и жизнь доказал правоту нашу. Русь воспрянула! Народы Российские победоносно преуспевают во главе всего мира» [130].
Булгаков поясняет, что раздражение Николая Константиновича вызвала рецензия на посвященную ему монографию В. Иванова и Э. Голлербаха, изданную в Риге. Сейчас мы можем прочесть эту рецензию. Тон её неизмеримо пристойнее откликов обиженного художника. Не скрывая от читателей, что ему «мессианство Рериха не по душе», Бенуа говорит и о том, что «многое в его искусстве мне дорого». В основном же речь идёт о сопроводительном тексте альбома рериховских репродукций, действительно неудачном, удивительно невнятном, повествующем не о мастере живописи, а полусвятом-полупророке, прикоснувшемся к сокровенным тайнам бытия [131].
Так же, как и Рерих, Бенуа высказался о своём противнике буквально на пороге смерти. В письме к И.С. Зильберштейну восьмидесятивосьмилетний искусствовед соглашался, что Рерих – большой художник, хотя, по его мнению, лишь в ранний период творчества – «до Гималаев». Иное дело Рених-человек – мало приятная была личность с бешеным честолюбием. Он для того и забрался в Кулу, чтобы со снежных вершин с величием взирать на мироздание и посылать оттуда вниз свои туманно-мистические пророчества [132].
Как видим, вражда двух выдающихся художников прошла через всю их жизнь, чуть ли не через три четверти столетия. Это теперь деятели начала прошлого века воспринимаются нами как одна плеяда, почти что дружная семья. И отчасти это верно: отойдя и от академизма, и от передвижничества, они все вместе заложили основы современного русского искусства, а попутно сумели открыть и заставить блистать новыми красками забытые сокровища в архитектуре и живописи прошлого.
Но внутри этой группы существовали свои сложные взаимоотношения, делавшие для Рериха иных сверстников даже более чуждыми, чем Стасов и Микешин. В который раз оправдало себя замечательное наблюдение Льва Толстого над своими персонажами: «Оба были люди уважаемые и по характеру, и по уму. Они уважали друг друга, но почти во всём были совершенно и безнадёжно не согласны между собой – не потому, чтоб они принадлежали к противоположным направлениям, но именно потому, что были одного лагеря (враги их смешивали в одно), но в этом лагере они имели каждый свой оттенок. А так как нет ничего не способнее к соглашению, как разномыслие в полуотвлечённостях, то они не только никогда не сходились во мнениях, но привыкли уже давно, не сердясь, только посмеиваться неисправимому заблуждению один другого» [133](Наши герои, впрочем, сердились, и весьма).
Результат же всего этого вышел тот, что сотрудничество Рериха в «Истории русского искусства» оказалось невозможным. Но этого мало. Точно так же отпали и Дягилев, и Билибин, и Фомин, и столь близкий Грабарю Бенуа. Широко известный критик, автор «Истории русской живописи в XIX веке» и десятков статей по искусству не пожелал стать простым исполнителем воли редактора, указывающего ему, что надо сказать здесь, а что – там. Он жаловался самому Грабарю на то, что он «обставил меня своими рецептами и программами. Я принужден компилировать, объезжать какие-то рифы, слушаться какого-то лоцмана. Мне это скучно» [134]. И через полтора года после начала работы инициатор издания потерял наиболее ценного, поистине незаменимого помощника.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу