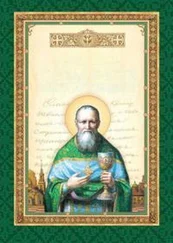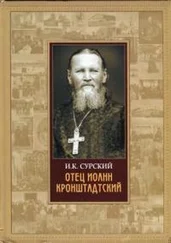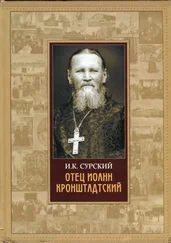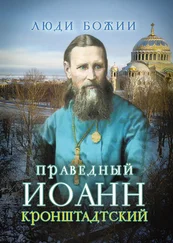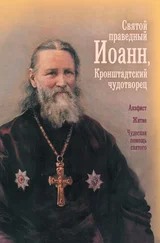Трактовки пастырем собственных сновидений могут показаться спорными, однако несомненно рвение, с которым он изобличает свои недостойные деяния, сотворенные им во сне, улавливает с их помощью даже самые незначительные изъяны натуры и укорительно побуждает к исправлению. Налицо напряженная духовная работа глубоко верующего человека. Он пытливо исследовал не только сознательные, но и подсознательные побуждения. Чувство ответственности за неосознанные стремления усугублялось тем, насколько буквально он воспринимал сновидения: для него совершенный во сне поступок фактически был совершен наяву, особенно когда дело касалось плотских искушений. Несмотря на то что о. Иоанн как будто и не испытывал осознанного плотского влечения в реальной жизни в первые после принятия сана годы, лишь постоянно отпуская другим грехи и искушения, он не был свободен от физических желаний во сне. К примеру, он писал в середине 1860-х гг.: «Вообще время сна не утрачено для христианина — это время нападений на его целомудрие» {76} 76 Там же. Д. 8. Л. 46. Обсуждение вопроса об ответственности священника за искусительные сновидения см.: Булгаков С. В. Настольная книга для священно- и церковнослужителей. Сборник сведений, касающихся преимущественно практической деятельности отечественного духовенства. Харьков, 1900. Кн. 1. С. 778.
. Он ощущал непосредственную личную ответственность за такие «нападения». Если ему снился искусительный сон, он немедленно просыпался и читал «Молитву от осквернения», «ибо душа, хотя не тело, была осквернена страстию плотскою» {77} 77 ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 23. Л. 36.
.
Столь суровое отношение к чистоте поступков и помыслов было почти неслыханным для священнослужителя. В сущности, о. Иоанн, будучи женатым священником, живущим в миру, стремился соответствовать тем же аскетическим идеалам, которым следовали монашествующие. Аскетическое подчинение Господу являлось ключевым для религиозности батюшки. В его мировоззрении все пронизано верой; любую сторону своей жизни он выставлял на суд Божий. Пастырь анализировал повседневные фразы и находил их ущербными, если они казались ему недостаточно праведными:
«Говорят друг другу: желаю тебе покойной ночи, приятного сна, а не говорят: усердной молитвы на добрый сон, что было бы гораздо правильнее (молитва, как условие приятного сна)… обычные благожелания наши должны носить в себе христианский отпечаток, а не мирской только, или плотской. Везде духовное должно быть впереди плотского, чувственного» {78} 78 Там же. Д. 24. Л. 38 об.
.
О. Иоанн использовал многозначное слово «изнеженность» для обличения слишком сильной привязанности к основным мирским благам, стремясь к полному отстранению от них: «Как знать, если я изнежен: если я отношусь плохо к запахам, вместо того, чтоб быть равнодушен (подумай о св. отце, который держал смердящий сосуд в своей келии, если я стону и стону, когда болен, если невыносимы комариные укусы или некрасивое лицо)» {79} 79 Там же. Д. 4. Л. 89. О. Иоанн, возможно, вспоминает здесь преподобного Арсения Великого, менявшего воду для своих пальмовых листьев лишь раз в году. См.: The Sayings of the Desert Fathers: The Alphabetical Collection. Kalamazoo, 1984. P. 11.
. Таким образом, о. Иоанн, как и аскеты, старался подчинить все стороны своей жизни Богу и пытался сдерживать любые желания и помыслы, которые могли бы помешать ему на этой стезе. Например, в 1868 г. он писал: «Систему принуждения над собою чаще употреблять» {80} 80 ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 12. Л. 9 об.
. Иногда, призывая себя «искоренить» страсти и желания, он прибегал к характерным образам аскетов: «Жизнь моя должна быть ежедневно всесожжена Богу жертвою самоотвержения… то есть я должен благодатию Духа Святаго попалить все восстающие во мне страсти» {81} 81 Там же. Д. 13. Л. 9 об.
.
Чтобы окончательно искоренить страсти, о. Иоанн обращался к духовной практике аскетов, заимствованной из самых разнообразных источников. Некоторые святые концентрировали свое сознание на образах. Используя их духовный опыт, пастырь приказывал себе смотреть на распятие и, глядя на Христа, ударять себя в грудь, говоря: «Это за меня страждет Бесстрастный и умирает Бессмертный; я бы должен страдать и погибать вечно по правде Божией» {82} 82 Там же. Д. 12. Л. 1. Эта практика заимствована из чувственно-эмоциональной молитвенной традиции, характерной для римского католицизма и привившейся к русскому православию в XVIII в. через Киевскую Духовную академию. Данная традиция проявилась в таких ранее неизвестных в России духовных жанрах, как размышления о Страстях Господних и «Акафист Иисусу Сладчайшему», который очень любил о. Иоанн. Запись батюшки о том, что он купил этот акафист в синодальной книжной лавке, см.: ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 4. Л. 2. Об этой сравнительно новой для русского православия тяге к обретению «сладости» см.: Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 107–122.
. Он следовал и еще одной православной аскетической практике, когда благодарил Господа за «дар слез покаяния». Подобное отношение к слезам как к дару Божьему имеет довольно глубокие корни в восточнохристианской традиции {83} 83 Высказывание на этот счет преподобного Пимена Великого см.: The Sayings of the Desert Fathers… P. 184; Symeon the New Theologian. The Discourses. N.Y., 1980. P. 314.
. В некоторых отношениях его стремление подавить личностное начало превосходило по изобретательности известные аскетические практики. Он писал: «Тебе нравится гулять на свежем воздухе и дышать его с наслаждением; этого мало, только телу полезно: во время прогулки надо помышлять о Боге, житиях святых, Евангелии» {84} 84 ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 12. Л. 44.
.
Читать дальше
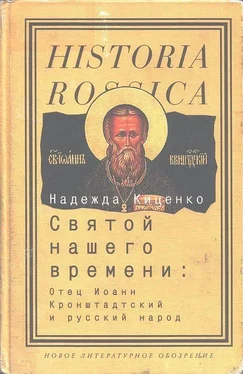
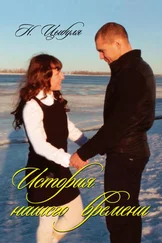
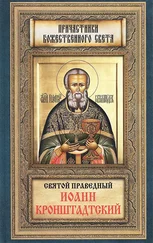

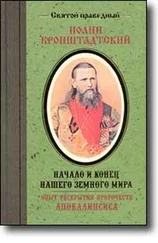
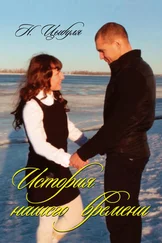

![Алексей Солоницын - Чудотворец наших времен [Святитель Иоанн, архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский]](/books/402293/aleksej-solonicyn-chudotvorec-nashih-vremen-svyatitel-ioann-arhiepiskop-shanhajskij-i-san-francisskij-thumb.webp)