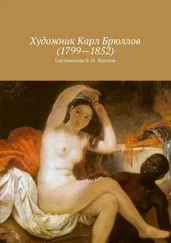Подобными событиями Россия действительно оказывалась «впутанной в раздумье». Как и всех мыслящих людей России, Брюллова сами события звали к размышлению. Осмыслению времени способствовали и встречи с людьми. Для Брюллова в тот переломный 1848 год особенно знаменательными стали две встречи: с философом Кавелиным и новая встреча с Федотовым.
Константин Дмитриевич Кавелин, философ и юрист, принадлежал к числу видных мыслителей и общественных деятелей 1840-х годов. Как раз в 1848 году он оставил Московский университет, где преподавал вместе с Грановским, Соловьевым, и переехал в Петербург. Здесь он вошел в круг литераторов, близких Белинскому. Это не было случайностью — именно Белинский в свое время готовил Кавелина к поступлению в Московский университет. Он приезжал в Петербург еще в 1842 году, как раз в том самом, когда Белинский познакомился с Брюлловым. Не исключено, что тогда-то и состоялось знакомство Кавелина с художником и не без участия Белинского — вряд ли в год тяжелой болезни Брюллов стал бы писать портрет человека, ранее совершенно ему не знакомого. Портрет Кавелина до нас не дошел. Но важен сам факт его создания в том переломном 1848 году. Зная взгляды Кавелина, можно себе представить, о чем они могли говорить. После вынужденного затворничества Брюллов, наверное, был особенно рад интересному новому собеседнику. Кавелин — яростный противник крепостного права: «Дворянство гнусно, гнусно и гнусно. Оно доказало, что быть душевладельцем безнаказанно нельзя: профершпилишь и совесть, и сердце, да и ум в придачу». Брюллов, по словам Шевченко, не раз говорил о ненависти к помещикам, к «феодалам-собачникам», как он выражался. Кавелин принадлежал к числу тех мыслителей, кому в те годы стала совершенно очевидной гнилость существующего строя. Многие люди сороковых годов, люди отнюдь не во всем совпадающих воззрений — революционер-демократ Белинский, анархист Михаил Бакунин, либерал Никитенко, — в оценке внутреннего положения России на редкость единодушны. Все пишут о всеобщей лжи, развращавшей русское общество. Все с гневом говорят о «процветающем взяточничестве», о крепостном праве, незыблемо стоявшем, как скала, о продажности судов. В беспощадном свете революционных взрывов на Западе язвы общества стали видны с устрашающей рельефностью. Однако правительство не желало и слышать о каких бы то ни было прорехах и недочетах, а уж серьезных язв не позволяло и подозревать. Это свойство русского правительства заметил еще маркиз де Кюстин: «Каждое неодобрение представляется им изменой; они зовут ложью каждую горькую истину».
Искусство и литература тех лет попадают в зону особо пристального внимания администрации, которая, по словам Алексея Толстого, как и весь общественный строй, стала «явным неприятелем всему, что есть художества, начиная с поэзии и до устройства улиц…» Бакунин, советуя Белинскому покинуть Россию, говорил: «Возможно ли человеку свободно излагать свои мысли, убеждения, когда его мозг сдавлен тисками, когда он может каждую минуту ожидать, что к нему явится будочник, схватит его за шиворот и посадит в будку!»
Трудно допустить, чтобы во время сеансов не велся разговор между художником и его моделью о наболевших вопросах; тем более что Кавелин, только что переселившийся в Петербург, стремился как можно глубже проникнуть в умонастроения жителей столицы и вряд ли упустил бы такую возможность. К тому же он мог в то время удовлетворить это свое желание лишь в уединенных домашних встречах — после первого известия о новом терроре, начавшемся после французской революции, весь «литературно-либеральный город прекратил по домам положенные дни», как свидетельствует петрашевец Баласогло — из страха перед полицейскими мерами на время прекратились «утренники» Краевского, «литературные вторники» Панаева, «субботы» Одоевского. В те дни, когда писался портрет Кавелина, ни он, ни Брюллов не могли предположить, что в далеком будущем они в некотором роде породнятся: дочь Кавелина Софья станет женою племянника художника, сына Александра Брюллова — Павла…
Даже в самое тяжелое время болезни Брюллова на визиты учеников запрет врачей не распространялся. Правда, учеников у него в связи с болезнью стало куда меньше, чем прежде, а в 1849 году их будет всего десять человек. Однажды от его ученика Федотова принесли две не так давно оконченные картины — «Свежий кавалер» и «Разборчивая невеста». Брюллов тотчас послал за автором Баскакова. Федотов писал потом, что застал учителя «в отчаянном положении» — худой, бледный, мрачный, он сидел в вольтеровском кресле перед приставленными к стульям картинами Федотова. Первым делом Брюллов спросил: «Что вас давно не видно?» Федотов ответил, что остерегался обеспокоить его в болезни. «Напротив, — сказал Брюллов, — ваши картины доставили мне большое удовольствие, а стало быть — и облегчение. И поздравляю вас, я от вас ждал, всегда ждал, но вы меня обогнали…» Словно позабыв на время о болезни, Брюллов с острым интересом разглядывал работы своего ученика, так непохожие на его собственные, давал конкретные советы. Заметив, что композиция «Свежего кавалера» несколько тесна, рекомендовал повторить ее в горизонтальном варианте. Советовал не слишком увлекаться хогартовской усложненностью: «У него карикатура, а у вас натура», — говорил он Федотову. Когда некоторое время спустя Федотов принес учителю начатую картину «Сватовство майора», Брюллов, по словам Федотова, «чрезвычайно был доволен». Несмотря на болезненное состояние, Брюллов начинает энергичные хлопоты в пользу Федотова: благодаря его усилиям «Свежий кавалер» и «Разборчивая невеста» попадают на академическую выставку, именно он исходатайствовал у президента Академии 700 рублей на окончание «Сватовства майора», именно по настоянию Брюллова Совет Академии признал возможным после окончания «Сватовства майора» рассмотреть вопрос о присуждении автору звания академика.
Читать дальше




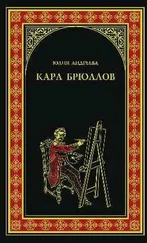




![Юлия Алейникова - Прощальный подарок Карла Брюллова [litres]](/books/400873/yuliya-alejnikova-prochalnyj-podarok-karla-bryullova-thumb.webp)
![Галина Леонтьева - Землепроходец Ерофей Павлович Хабаров [Книга для учащихся старших классов]](/books/422854/galina-leonteva-zemleprohodec-erofej-pavlovich-hab-thumb.webp)