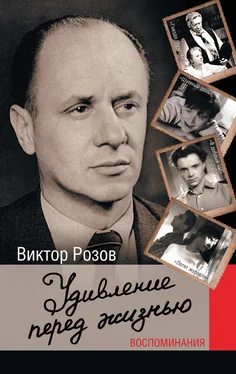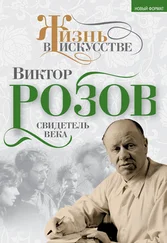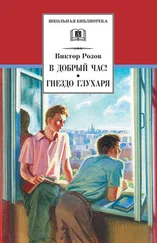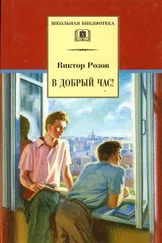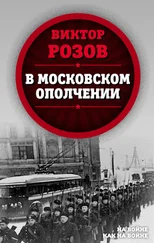Величественная и уже седая Елизавета Федоровна Саричева – преподаватель техники речи – вошла, и сразу все поняли: тут шутки плохи. И голос красивый, но как будто из металла большого удельного веса, и осанка, и нешуточный взгляд. Недаром мы потом все годы перед ее приходом в класс выставляли вестовых вдоль лестниц и коридоров, и те по цепочке передавали: «Саричева идет! Саричева идет!..» Мчались опрометью, и к ее приходу в классе стояла тишина. Боялись и любили. Замечательный педагог! Лично я, явившись с жидким, болтающимся голоском да еще со знаменитым костромским «оканьем», ровно через полгода приобрел нормальный человеческий русский выговор и голос, которым можно было без особых усилий говорить внятно, на всю ивановскую. Правда, и занимался я самостоятельно по три-четыре часа в сутки минимум.
И совсем молодой Григорий Нерсесович Бояджиев, сам только что окончивший ГИТИС, но неведомо откуда набравший внутреннюю силу, умеющий тихо, но твердо держать нашу ораву в узде, в то время как сам мерными шагами прохаживался пo проходу меж нашими учебными столами и ровным, но втягивающим куда-то в глубь веков голосом вещал об истоках театра, о Дионисиевых действах, о боге Аполлоне… Кстати, от него и даже, кажется, именно на первом уроке я впервые услыхал ошеломившую меня тогда мысль, что религия в своем зарождении была фактором прогрессивным в истории развития человеческой цивилизации. До этого я твердо и категорически знал, что религия – опиум для народа. И только! Ничего положительного в ней быть никогда не могло, только опиум, – и вдруг… И уже все годы лекции его мы слушали с пребольшим интересом. Он не только излагал историю театра, он развивал наш ум, делал его способным к самостоятельным движениям.
И Мария Степановна Воронько, преподаватель танца, бойкая, острая, динамичная, довольно звонко бившая нас своей маленькой, но хлесткой рукой по мягким частям тела, если кто нескладно выполнял то или иное движение. Я не люблю, когда меня бьют, но когда била Мария Степановна, единственное, чего я боялся, – громко расхохотаться.
И тихий Троцкий, вскоре сменивший фамилию на Троицкий, так как со старой фамилией жить стало трудно, даже неприлично и более того – опасно. И… Нет, я сейчас не смогу рассказать обо всех наших учителях, это просто слишком далеко уведет меня в сторону. Это я сделаю, может быть, потом.
Евгения Николаевна вошла в класс легко, порывисто, обвела нас своими карими глазами и голосом, таким же звонким, каким я слыхал его на следующий день после ее семидесятипятилетия по телефону из Ялты, назвала свое имя, отчество, фамилию и предмет, который будет преподавать. Молоденькая худенькая брюнетка. Небольшое личико с большими глазами. Но что подействовало на всех как особая странность, это – вся в черном. Платье черное, чулки черные, туфли тоже, и к тому же черные волосы. Что это? При ее субтильности – для веса, для строгости, для устрашения? Ну просто траур. Даже неприятно. Молодые души требуют света, они жестоки, им только свет подавай. Очень хорошо у Лермонтова сказано: «…с жестокой радостью детей». Жестокая радость детей – это еще совсем не изученный психологический феномен. Они вешают кошку или отрубают лапы живому голубю, и им весело. Жестокая радость. Ах, если бы понять ее, понять и уметь воздействовать! Ведь слова, уговоры, ласки, угрозы, логика, убеждение – все перед ней бессильно, даже милиция, даже исправительно-трудовая колония. Мы боремся с этой жестокой радостью, но, увы, не знаем, с чем боремся. Это все равно что бороться с крапивой, обрывая ее стебли, а глядь, уже из земли всходят новые побеги, корней-то мы и не знаем, без конца обрываем побеги, и только…
Вся в черном. Позднее мы узнали, в чем дело. Совсем незадолго до прихода в наш класс Евгения Николаевна потеряла мужа и почти одновременно – младшую дочь. Недаром в ее голосе все же были какие-то чуть надтреснутые интонации. Нам казалось, что она старалась, а она – преодолевала. Стоически преодолевала. Это была мужественная женщина. Недаром с детства она жила в кругу интеллигентов-революционеров, суровых борцов за правое дело, тех самых, о которых мы теперь только читаем в книжках. Евгения Николаевна часто сопровождала уже пожилую Фигнер в ее прогулках в Подмосковье, где легендарная женщина жила на отдыхе. И на прогулках беседовали, беседовали… Было у кого учиться мужеству.
Литературу раньше преподавали не так, как сейчас, начиная с летописей, а прямо с Пушкина. Считалось, до Пушкина уж такая никому не нужная ерунда, что нечего ею и забивать молодые вольные головы. Да и истории не было – ни в костромской школе, ни тут, в театральной. В школе было обществоведение, но ведали нам об обществе крайне бегло. Степан Разин, Пугачев, осторожно – декабристы и уж более подробно – от народовольцев до Октябрьской революции. Нам казалось, что история и начинается именно с Октябрьской революции. В те и еще более ранние годы и учили нас по-новому. Все старое рушилось до основания. Сносили не только памятники царям и церкви, но и старые порядки. Всюду! В том числе и в школе. Искали новые формы. Что ни год – новые. Как только мы не остались круглыми дураками, непостижимо! Видимо, оттого, что была все же в этом новом какая-то живинка, задор, занятность.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу