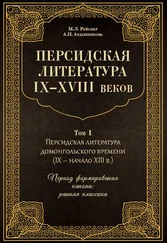Андреа д’Аньоло, прозванный дель Сарто (то есть сын портного), родился в 1486 году и школу прошел в мастерской Пьеро ди Козимо. Колористические задатки Андреа дель Сарто получили, таким образом, с самого начала благоприятное развитие; кроме того, Пьеро ди Козимо привил своему ученику интерес к североевропейскому искусству, интерес, вообще чуждый флорентийским мастерам классического стиля. Дальнейшее художественное развитие Андреа дель Сарто прошло под перекрестным влиянием то Леонардо, то Микеланджело. В 1508 году Андреа дель Сарто вступил на самостоятельный путь, основав вместе со своим другом Франчабиджо совместную мастерскую. Совместно с Франчабиджо Андреа дель Сарто получил и два своих больших заказа, над которыми он с перерывами проработал в течение почти двадцати лет. Первый состоял в росписи портика церкви Сантиссима Аннунциата; второй — в монохромных фресках, украшающих клуатр монастыря Скальцо и посвященных жизни Иоанна Крестителя.
В 1518 году Андреа дель Сарто по приглашению короля Франциска I приехал во Францию, но после недолгого пребывания в Париже вернулся во Флоренцию, где умер в 1530 году.
Андреа дель Сарто в полном смысле слова — дитя классического искусства. Даже в самых ранних его произведениях почти нет никаких следов кватроченто. И если в композициях фра Бартоломео всегда чувствуется некоторое напряжение, натянутость в использовании классической схемы, то Андреа дель Сарто владеет приемами классического стиля с само собой разумеющейся, виртуозной легкостью. В этом убеждает уже одна из самых первых работ Сарто — фреска «Рождение богоматери », которую молодой мастер написал в портике Сантиссима Аннунциата в 1514 году. Картина лишена малейших признаков религиозного настроения. Сарто изображает событие, как светскую, жанровую сцену, с хлопочущими вокруг новорожденной няньками, с поздравительницами, и не забыты даже туфли роженицы у подножия ее алькова — северный прием. Фигуры двух посетительниц в пышных, просторных одеждах являются идеальным образцом классического стиля с их лениво-вольным и в то же время монументальным ритмом движения. И как изумительно развернуто дугообразное движение всей композиции: оно начинается слева, от дверей в глубине, изгибается полукругом вперед, к двум гостьям на переднем плане, и снова заворачивает назад, замыкая круг в фигуре Иоакима. Причем эта круговая схема фигурной композиции находит себе отзвук в двух кольцах балдахина. По своему свободному, плавному размаху такая композиция была бы вполне достойна Рафаэля. Но, вглядываясь в нее внимательнее, мы не находим в ней никакого духовного стержня. Между фигурами нет ни волевой, ни эмоциональной связи. Их взгляды нигде не соприкасаются, их движения пассивны, словно приколдованы (например, служанки, обернувшейся к зрителю). Есть во фреске Андреа дель Сарто и еще один момент, который, так сказать, обесценивает ее классическую структуру, — это ее верхняя часть, изображающая путто на балдахине алькова и ангела, спускающегося на облаке с кадилом. Она вносит элемент таинственности, церковного чуда, резко противоречащий жанровому, обыденному характеру сцены внизу. Для классического стиля такое смешение неприемлемо. Он идеализирует природу, героизирует действительность, но никогда не допустил бы внедрения чуда в быт или повседневной прозы в идеальные сферы.
Напротив, у Андреа дель Сарто это один из самых излюбленных приемов. Так, в картине «Благовещение », написанной одновременно с фреской в портике Санта Аннунциата, Сарто снова использует прием смешения, но в обратном смысле. Здесь на переднем плане — священное событие, причем Сарто опять отступает от концепции классического стиля и подчеркивает чудесный, мистический характер благовещения, помещая ангела на облаках. На заднем же плане — чисто жанровая сцена: обнаженная фигура сидит на ступенях, в то время как с высокого балкона ее с интересом наблюдает группа зрителей. Композиция задумана с классической ясностью главных линий. Особенно следует отметить две диагонали, которые неудержимо ведут к богоматери и в точке пересечения которых как раз находится обнаженная фигура. Во имя классической ясности движений ангела Сарто отступает от традиций, согласно которым мадонна на «Благовещении »всегда изображалась справа. Здесь она слева, а ангел приближается к ней справа, и благодаря этому его вытянутая вперед правая рука не закрывает тела. Но наряду с классической логикой композиции в «Благовещении »уже проявляются специфические черты таланта Андреа дель Сарто, очень скоро приводящие его к разложению классического стиля, к маньеризму: вялость темперамента и мягкая расплывчатость его живописи. Андреа дель Сарто был, пожалуй, единственным среди флорентийских и римских последователей Леонардо, кто поддался очарованию сфумато великого флорентийца. При этом Сарто гораздо дальше развивает принципы леонардовского сфумато. Во-первых, в сторону еще большей легкости, дымчатости, расплывчатости. А во-вторых, в сторону большей красочности. Чисто пластическое средство в руках Леонардо, сфумато становится орудием колорита в живописи Андреа дель Сарто, вибрируя и насыщаясь красочными оттенками.
Читать дальше
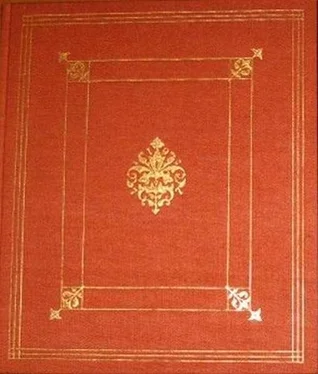








![Георгий Иванов - Кольцо Сатурна [Фантастика Серебряного века. Том XIII]](/books/420384/georgij-ivanov-kolco-saturna-fantastika-serebryan-thumb.webp)