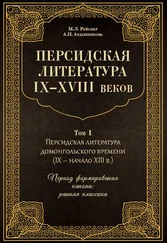К этой воздушности рисунка, которая лучше всего удалась Корреджо в «Мадонне делла Скоделла», я бы и хотел привлечь внимание. В своей характеристике пармского мастера Вазари высказывается о Корреджо как о худшем рисовальщике, чем живописце. Такую оценку, конечно, надо понимать относительно. Вазари исходит из флорентийских традиций рисунка, наиболее блестящим представителем которых является Андреа дель Сарто. Для него высшие качества рисунка заложены в чистоте контура, в строгости линии. Корреджо же открывает новые возможности рисунка — рисунка не линией, а пятном.
Последняя из работ Корреджо на религиозную тему, «Мадонна со святым Георгием», написанная, по-видимому, незадолго до смерти, не принадлежит к лучшим его произведениям. Тем не менее она очень характерна для позднего стиля мастера. Картина поражает своим беспокойством — и внешним и внутренним. Святые столпились в тесное кольцо; все жестикулируют, поворачиваются, указывают, улыбаются. Рядом с этой «Мадонной »первая алтарная картина Корреджо — «Мадонна со святым Франциском »— может показаться застывшей. Здесь же все действуют зараз, словно в каком-то радостном опьянении. Если и раньше Корреджо любил вовлекать зрителя внутрь картины, то теперь его приемы похожи прямо на зазывание. Все действующие лица стремятся овладеть вниманием зрителя; и не только с помощью жестов, но самой игривостью своего настроения. Святой Георгий весело подбоченился, святой Джиминьян поддразнивает младенца моделью храма, маленькие путти шалят с доспехами. На наш взгляд здесь слишком шумно и весело для священного момента поклонения. Современников, напротив, восхищала именно непринужденная свобода всех движений, которая казалась им залогом неподдельной искренности чувства.
В картине обращает внимание, однако, еще одна любопытная особенность: Корреджо выбирает здесь чрезвычайно близкую точку зрения, настолько близкую, что зритель, кажется, вот-вот прикоснется к высовывающемуся локтю святого Георгия и натолкнется на путто, выходящего прямо из картины. Если присмотреться в этом смысле к творческой эволюции Корреджо, то бросается в глаза, как плоскость картины с каждым годом все более приближается к зрителю, пока в «Мадонне со святым Георгием» не достигает своего предела. Этот прием близкой дистанции опять-таки резко противоположен искусству Ренессанса, которое всегда стремится сохранить значительное расстояние между зрителем и картиной. Различие это очень типично: художники Ренессанса логически, рационально строят пространство по объективным законам перспективы. Корреджо и маньеристы стремятся к субъективному восприятию, к иррациональной сфере чувства. Благодаря близкой дистанции пропорции фигур уменьшаются такими неудержимо быстрыми скачками, словно проваливаются в бездну. Создается впечатление, что фигуры действуют не в пространстве, а во времени, что они появляются не одна за другой, а одна после другой.
Наряду с большим количеством религиозных композиций — с главными из них мы познакомились — Корреджо исполняет несколько картин на мифологические темы. Лучшие из них — «Даная» в галерее Боргезе в Риме, «Ио» в Вене и «Леда» в Берлине — написаны им, по-видимому, для мантуанского герцога Гонзага и принадлежат последнему периоду творчества. Я не могу согласиться с теми биографами пармского мастера, которые считают эти произведения особенно характерными для художественного гения Корреджо. Я думаю, напротив, что в них он менее свободен от приемов классического стиля и менее последователен в своих художественных исканиях. «Даная», например, очень сильно отличается от всех современных ей религиозных композиций мастера. В ней нет ни резкой асимметрии, ни легкого движения света, ни воздушности контура, свойственных Корреджо. Картина построена по рельефному принципу Ренессанса: фигуры далеко отставлены одна от другой и отчетливыми светлыми силуэтами выделяются на темном фоне. Жесткий вырез окна уравновешивает наклон Данаи и группу маленьких путти; движение развивается не вверх и в глубину, а мимо зрителя, как это принято в классическом стиле. Тот же, мы бы сказали, скульптурный принцип господствует и в «Ио». Здесь, совершенно для себя необычно, Корреджо довольствуется только одной фигурой, пластической лепке которой посвящена вся картина. Мягкое растворение контуров достигнуто искусственным способом, с помощью облака, в тумане которого Юпитер спускается к своей возлюбленной.
Читать дальше
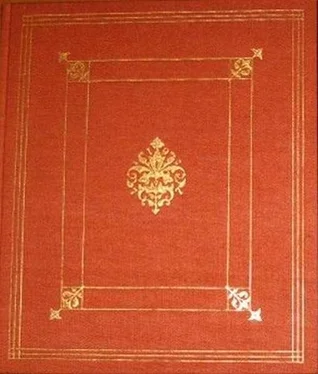








![Георгий Иванов - Кольцо Сатурна [Фантастика Серебряного века. Том XIII]](/books/420384/georgij-ivanov-kolco-saturna-fantastika-serebryan-thumb.webp)