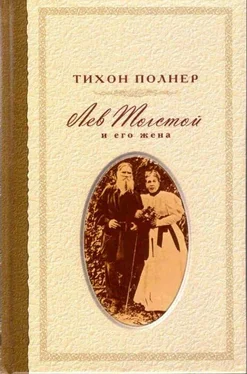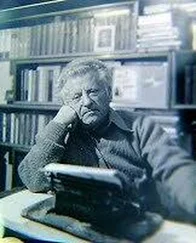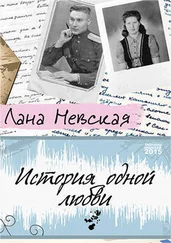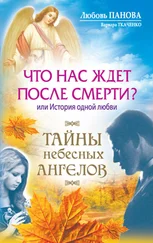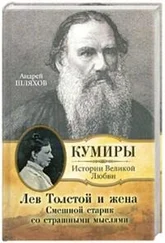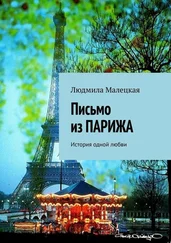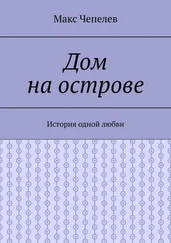Примеры, которые были у него перед глазами, отнюдь не всегда поощряли к нравственному совершенствованию. «Мне не было внушено, — говорит он в другом месте, — никаких нравственных начал, — никаких, а кругом меня большие с уверенностью курили, пили, распутничали (в особенности распутничали), били людей и требовали от них труда. И многое дурное я делал, не желая делать, только из подражания большим».
Впрочем, соблазны шли не только от окружающих. Трудно представить себе индивидуальность, в которой голос природы, жажда личного счастья говорили бы сильнее. И не менее властно влекло его в то же время стремление к добру, к нравственному, к самосовершенствованию. Без удовлетворения этой его органической потребности для Толстого не было и не могло быть личного счастья. Обе стороны его сложной натуры (личные потребности в узком смысле слова и стремление к добру) находились в вечном конфликте. Едва ли кого-нибудь дразнило столько соблазнов. Путь к «добру» был прегражден для него не только страстною и могучею физической природой, но и необыкновенно гибким, парадоксальным умом, который, с удивительной виртуозностью, служил в каждом данном случае его неудержимому стремлению к личному счастью. Личные потребности вели его бессознательно к заполнению общей формулы добра все новым и новым содержанием. При этом нет и следов малейшей неискренности, которую он больше всего на свете ненавидел — в себе и других.
4
Бросив университет, девятнадцатилетний Толстой уехал в деревню. Он рассчитывал в два года легко подготовиться дома к выпускному экзамену. Его манила также мысль руководить благосостоянием крестьян деревни Ясной Поляны, которую он получил около этого времени по разделу с братьями. Он полагал, что священная и прямая его обязанность заботиться о счастье семисот человек, за которых он должен будет отвечать Богу.
Устраивать «счастье» крепостных крестьян оказалось не так просто. Свои неудачи в этом деле Толстой описал впоследствии в рассказе «Утро помещика». Собственное сельское хозяйство тоже шло плохо и скоро показалось Толстому тяжелой обузой.
Уже осенью 1847 года он бежал из деревни и всем существом погрузился в соблазны Москвы. Он вел жизнь обычную для «золоченой молодежи» того времени: выезжал в свет, танцевал, ухаживал, занимался фехтованием и гимнастикой, ездил верхом в манеже, участвовал в кутежах, часто бывал у цыган, пением которых увлекался, играл в карты и много проигрывал… Такая жизнь не всегда удовлетворяла Толстого: он раскаивался, записывал в дневнике свои прегрешения, каялся, ехал на исправление в деревню… но скоро опять оказывался в водовороте страстей и соблазнов… Иногда он твердо решал, что «умозрением и философией жить нельзя, а надо жить положительно, то есть быть практическим человеком». Тогда он зачислялся на службу в какую-нибудь тульскую канцелярию. Или устремлялся в Петербург держать выпускной экзамен в университете. Но неожиданно для себя бросал экзамены и начинал хлопотать о поступлении юнкером в аристократический конно-гвардейский полк, чтобы идти в поход на Венгрию. Твердо решив оставаться в Петербурге «навеки», он вдруг уезжал в Ясную Поляну, потому что весна поманила его в деревню. Одно из подобных практических настроений толкнуло его даже на коммерческое предприятие: он снял в аренду почтовую станцию в Туле, но, к счастью, успел без большого убытка, вовремя отделаться от нее. Раз, провожая жениха сестры, он прыгнул к нему на ходу в тарантас и не уехал с ним в Сибирь только потому, что забыл дома шапку…
Не все из этих похождений кончались благополучно. Небольшое состояние его таяло; иногда азартных проигрышей в карты нечем было платить. В одном характерном письме к брату Сергею он пишет (весною 1848 года): «Надо мне было поплатиться за свою свободу (некому было сечь — это главное несчастье) и философию, вот я и поплатился. Сделай милость, похлопочи, чтобы вывести меня из фальшивого и гадкого положения, в котором я теперь — без гроша денег и кругом должен».
Первый бурный период его жизни закончился 20 апреля 1851 года: Толстой вдруг решил «изгнать себя на Кавказ, чтобы бежать от долгов, а главное от привычек». Он уехал со старшим братом Николаем, который служил на Кавказе в артиллерии и весной 1851 года, по окончании отпуска, возвращался к своей батарее.
На Кавказе Лев Николаевич оставался почти два с половиною года (1851–1854). Свою жизнь там он описал в рассказах «Набег», «Рубка леса», «Встреча в отряде с московским знакомым», «Записки маркера» и особенно близко в «Казаках». Через полгода после приезда он поступил юнкером в артиллерию, участвовал в боях против горцев и не раз подвергался серьезной опасности. «Привычек», от которых он бежал из Москвы, не удалось избыть и на Кавказе: офицерская среда вынуждала участвовать в попойках, картежной игре. Азарт и здесь преследовал его, он проигрывал иногда в карты такие суммы, которые приходилось добывать с величайшими усилиями. Однажды, живя в Тифлисе, Толстой пристрастился к игре на биллиарде, решил во что бы то ни стало победить знаменитого местного маркера, сыграл с ним 1000 партий и чуть не лишился всего состояния.
Читать дальше