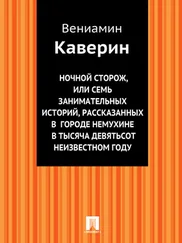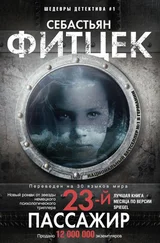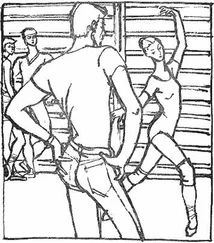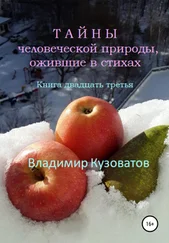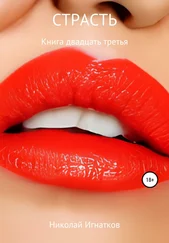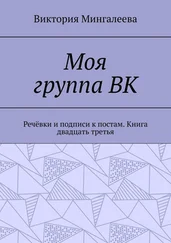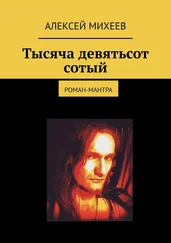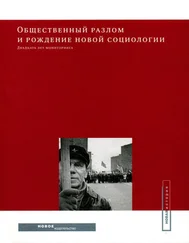Но, разумеется, гвоздем программы было выступление нашего солиста — Форселлини. По существу, он исполнил целое концертное отделение первоклассной мировой классики. И не важно, что текст для многих оставался тайной — пел он на итальянском, — но музыка и голос покорили всех. Даже самые дремучие зрители, которые, может быть, и на концертах-то никогда в жизни не были и слушали такое впервые, — но и они оттаяли, просветлели их лица, так как почувствовали, что соприкоснулись с настоящим мастерством исполнителя и еще с чем-то высшим, неведомым им, но прекрасным.
А пел Форселлини с наслаждением, казалось, ничего не видя вокруг и полностью отдаваясь музыке. Что-то виделось ему, перед его внутренним взором: концертные залы Рима, Будапешта, оперная сцена Милана?..
Когда концерт закончился и мы вышли на общий поклон, то Форселлини куда-то исчез. Бросились искать его за кулисами и нашли в дальнем углу, у пыльного зарешеченного окна, из которого была видна вышка часового. Лицо его было залито слезами. Мы обняли его, расцеловали, говорили какие-то слова, которых он наверное не понимал, и почти силой вытащили на сцену к восторженным зрителям. Он растроганно кланялся, смущенно улыбался. Убеждена: этот день, этот концерт он запомнил на всю жизнь. Да и каждому из нас он врезался в память до мельчайших подробностей.
* * *
А потом начались гастрольные будни. Сопровождал нас конвой из четырех человек. Возили нас по лагерям в радиусе, вероятно, двухсот-трехсот километров. Сколько же их было вокруг Новосибирска! И большие, и маленькие, и промышленные, и сельские.
В зависимости от того, какие попадались охранники, поездки эти иногда были мучительно-унизительными, а иногда даже и приятными. На вокзал нас привозили в «воронке», сгружали где-нибудь у грузовых платформ, где нет народу, и размещали в служебном вагоне или товарняке, который потом прицепляли к составу. Никогда не знали, куда именно едем. Изредка удавалось заметить название станции. Кормили в дороге плохо, иногда за весь день только кипяток да пайка хлеба доставались. Но все равно так интересно было ехать в незнакомые края, глазеть на проплывающие мимо поселки, на привокзальную суету во время остановок.
От станции назначения до лагерей добирались на машине, а нередко и пешком. И было большой радостью шагать по проселочным дорогам, по полям. Деревни, поселки обходили стороной. Лето наступило быстро — знойное, цветущее. Иногда, особенно на привалах, где-нибудь в тени деревьев, на берегу ручья забывалось о лагере, о подневольном состоянии, и только обостренное впитывание в себя, запечатление в памяти каждого встреченного дерева, куста, цветка, птицы, бабочки и кузнечика… А как хотелось запомнить, нарисовать, унести с собой бескрайние поля, холмы, перелески, березовые колки, синеющие дали, излучины рек, жалкие деревушки на их берегах и скучные унылые села, тянущиеся вдоль пыльного тракта. Я и сейчас могу мысленно увидеть эти ненарисованные картины.
Так же впечатались в память и лагеря, в которых пришлось побывать. При всем общем для них — заборы, вышки, бараки — в каждом было и нечто свое, неожиданное. Так поразил нас крохотный лагерь, где всего-то находилось около полсотни женщин-доярок (это, видимо, был «филиал» какого-то большого лагпункта). И не было там даже забора, а только загон для коров да несколько изб. Мы и концерт давали на крылечке новой избы, где разместились человек десять охраны. Неплохо им, видимо, здесь жилось: и молоко, и огород, и женщину любую можно использовать…
После концерта благодарные зрительницы напоили нас молоком, накормили картошкой с зеленым луком (!) и, пользуясь благодушием конвоя, разбрелись мы вдоль тенистого берега речушки, дугой огибавшей лагерь. Купаться в ней было нельзя — вся заросла осокой, но так блаженно было поваляться в высокой траве, смотреть в облака (те самые, которые «вольные странники»), слушать, как хрумкают пасущиеся рядом коровы… В густой зелени возле реки впервые увидела огромные, совсем как садовые, малиновые пионы, их здесь никто не сажал, не сеял — растут себе просто от щедрот земли сибирской. Какая же здесь могла быть прекрасная жизнь! И что сделали с этой землею люди… Так и запомнился этот лагерь, как «райский уголок», из которого нельзя уйти и на полкилометра: заборов нет, но у местной охраны есть автоматы, мотоцикл и две немецкие овчарки…
Находился этот лагерь, как мне кажется, где-то неподалеку от города, в районе Инской железнодорожной ветки. Проезжала я несколько лет назад в тех краях на машине, и вдруг что-то в сердце дрогнуло, будто узнала тот «райский уголок».
Читать дальше