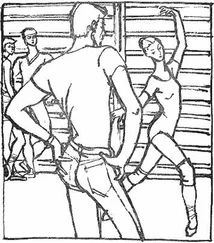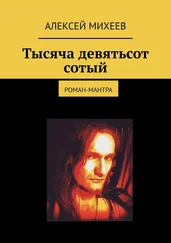И действительно, когда он вышел на сцену, как-то очень профессионально занял позу, сразу преобразился, стал почти красивым и, наконец, прозвучала первая фраза из Леонкавалло: «Аврора уж солнцем блистала» (пел он на итальянском). Все замерли, такой поразительной чистоты и силы был этот голос! Такого уровня тенор можно было слышать только по радио. Оказалось, что Форселлини (не знаю, подлинное ли это его имя) был солистом Будапештского радио, а стажировался в Ла-Скала в Милане. Уж насколько невозмутимыми были члены комиссии, но и они разразились аплодисментами и долго не отпускали со сцены этого прекрасного певца. А он, казалось, был неистощим и мог петь еще и еще, полностью отдаваясь музыке. Исполнял он арии из опер Пуччини, Верди, Леонкавалло и, под конец, он так спел «Смейся, паяц, над разбитой любовью», что казалось, будто голос прорывается сквозь рыдание и у него слезы на глазах. И за что только угодил этот Форселлини в лагерь, да еще по 58 статье? Говорили, что он бежал из Румынии от нашествия фашистов и надеялся найти убежище в Советской России… Вот и нашел «убежище» за колючей проволокой. Мне кажется, что он понимал по-русски и мог говорить, но, в знак протеста, принял обет молчания, никогда ни с кем не пытался говорить и не отвечал на вопросы. И только в пении выкладывался весь.
Я в первый вечер не рискнула выступить, да и что я могла — читать стихи? Но какие, и нужны ли они здесь? Шурка уговаривала меня все же показаться, хотя бы ради возможности освободиться от тяжелой работы. А это был серьезный аргумент — дни моего отдыха кончались и 10-го мая уже нужно было выходить на работу.
Возбужденные, мы пришли вечером в барак и, к моему удивлению, Сонька-Бандерша приняла горячее участие в моем «определении в артистки», лишь жалела, что не сумеет пойти посмотреть на меня. Уже после отбоя она увела меня с Шуркой в кладовку и там мы устроили «репетицию». Они заставили меня вспомнить и прочитать все, что я знала наизусть, и единодушно решили, что подойдет фрагмент прозы из «Войны и мира», который был подготовлен для конкурса. Лирику Пушкина они забраковали («не дойдет до нашей публики»), но очень им понравился отрывок из поэмы Твардовского «Страна Муравия» — «Перепляс»: «Гармонист ударил вдруг! Шире круг! Шире, шире! Эх, дай на свободе разойтись сгоряча… Гармонист гармонь разводит от плеча и до плеча…». Хорошо бы, конечно, чтоб этому тексту баянист подыграл. Ну да и гитарист, наверное, сумеет задать хотя бы ритм пляски. На том и порешили. Велели мне мои опекунши закрутить на тряпочки волосы, чтобы утром сделать пышную прическу. Сонька даже шпильки свои подарила ради этого. И, конечно же, было решено, что выступать я буду в своем новом платье. Недоставало обуви — не выйдешь же на сцену в галошах. Сонька пообещала мне найти подходящую брезентовую тряпку и в течение дня я сумею сшить себе тапочки.
В общем, после такой основательной подготовки мое выступление прошло вполне успешно, и мне даже предложили взять на себя роль ведущей концерта. Вряд ли я так уж хорошо читала. Думаю, что главным стало то, что на фоне брезентовых роб и серых бушлатов мое появление в белом платье было приятным контрастом для глаза и вызвало у комиссии расположение ко мне. Был окончательно утвержден состав нашей бригады — все перечисленные выше. И хотя репертуар получался довольно пестрым, это никого не смущало. Бригадиром нашим был назначен баритон — крымский татарин. Начальник лагеря освободил нас на ближайшие два дня от работы, велел репетировать, искать новые номера, подумать над сценками и драматическими отрывками (дал томик Чехова). А с понедельника предполагалось начать нашу концертную деятельность: выступить сначала у себя, а потом нас будут возить по другим лагерям с концертными программами. Начальнику (явно тяготевшему к искусству) хотелось, чтоб к нам еще присоединились хотя бы некоторые участники духового оркестра, но это не удалось: ни у кого из них не было сольного репертуара, да к тому же большинство из них не имели права выхода за зону.
Так, с помощью все той же Шурки, определилась моя лагерная жизнь. Как же я была благодарна ей! Что бы я делала без нее даже и подумать страшно. Мало того, что я освобождалась от непосильной физической работы, но, главное, у меня появилась надежда, что в одном из лагерей, где нам придется бывать на гастролях, я встречу Арнольда.
Радостно было на следующее утро не спешить в ряды тех, кто строился возле вахты для выхода из зоны на работу. Если б не забор вокруг и вышки с часовыми, можно было бы забыть о том, что мы несвободные люди. Совсем как «вольные» собрались восемь человек в тесной комнатке КВЧ для того, чтобы заняться интересным и приятным делом. И ничего, что в состав этой группы входили люди разного возраста, разного культурного уровня, и очень различными были причины, приведшие их в лагерь (об этом говорить избегали), но с момента первой репетиции я стала ощущать себя в коллективе, а значит, защищенной от внешнего, враждебного мира, да так это и было. Например, наши плясуны цыгане обеспечили полную сохранность нашего имущества. Если случаи воровства считались в лагере чуть ли не повседневностью, с которой бессмысленно бороться, то нашей группе будто была выдана охранная грамота, и ни у кого из нас не пропало ни мелочи. Даже когда однажды у кого-то исчезла из-под изголовья пайка хлеба, то на следующее утро появилась там снова. И мы знали, что обязаны этому нашим цыганам, так сказать, воришкам по призванию: они не гнушались стащить что-либо на стороне, но у «своих» — никогда. Да еще и других отваживали какими-то только им известными методами.
Читать дальше