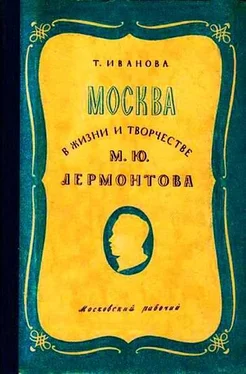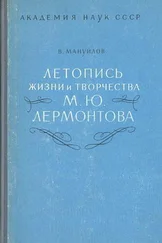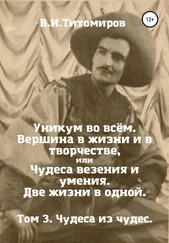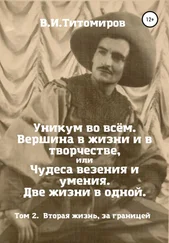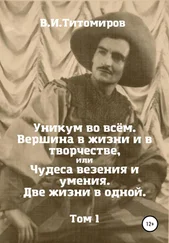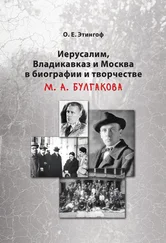Мой друг! ты знаешь ту поляну; –
Там труп мой хладный ты зарой,
Когда дышать я перестану! [171] М. Ю. Лермонтов. Соч., т. 1, стр. 183.
В течение всего лета Лермонтов не перестает возвращаться к своей любви и говорить о ней в самых разнообразных формах.
Пережитые страдания заставляют юношу как-то сразу вырасти и возмужать. Роли меняются. Лермонтов говорит теперь со своей героиней, как старший с существом более слабым и неустойчивым, как мужчина с юной девушкой. В стихотворениях этого лета чувствуется какая-то внутренняя зрелость и мудрость. В упреках юноши много трогательной нежности. Он старается оправдать Наташу. Трудно представить, что это пишет семнадцатилетний мальчик.
Во зло употребила ты права.
Приобретенные над мною,
И мне польстив любовию сперва,
Ты изменила – бог с тобою!
О нет! я б не решился проклянуть! –
Все для меня в тебе святое:
Волшебные глаза, и эта грудь,
Где бьется сердце молодое.
«К***» («Всевышний произнес свой приговор»…) Конец июля [172] М. Ю. Лермонтов. Соч., т. I, стр. 186, см. также стр. 206.
.
Лермонтов говорит о каком-то поцелуе, который, он знал, не был поцелуем любви:
В те дни, когда любим тобой,
Я мог доволен быть судьбой,
Прощальный поцелуй однажды
Я сорвал с нежных уст твоих;
Но в зиой, среди степей сухих,
Не утоляет капля жажды.
«К Н. И……» [173] Там же.
Проходит лето. Вакации кончаются, и перед началом занятий в университете Лермонтов возвращается в Москву.
Летом, Едали от Наташи, Лермонтов спокойно мог рассуждать о происшедшем. Теперь, в городе, он встречается с ней на балах и видит ее, красивую и жизнерадостную, окруженную влюбленными в нее молодыми людьми. Любовь и ревность вспыхивают с новой силой.
Лирические дневники Лермонтова осени, зимы и весны 1831-1832 годов [174] Тетради 11-я и 4-я Пушкинского дома.
свидетельствуют о внутренней борьбе и мучительных переживаниях юноши-поэта, связанных со встречами его с Н. Ф. Ивановой.
Опять, опять я видел взор твой милый,
Я говорил с тобой.
И мне былое, взятое могилой,
Напомнил голос твой [175] М. Ю. Лермонтов. Соч., т. I, стр. 211.
,
– пишет он 28 сентября. Встреча с Ивановой напомнила Лермонтову о его драме «Странный человек» и заставила его вернуться к ней.
На развороте со стихотворением читаем: «Еще сцена для странного человека», и дальше, на четырех страницах, черновой набросок сцены у студента Рябинова, которая в драме, законченней 17 июля, отсутствовала.
«Снегин. Что с ним сделалось? Отчего он вскочил и ушел не говоря ни слова?
– Челяев. Чем-нибудь обиделся!
– Заруцкой. Не думаю:-ведь он всегда таков; то говорит, орёт, хохочет… то вдруг замолчит и сделается подобен истукану; и вдруг вскочит, убежит, как будто потолок над ним проваливается…»
Очень возможно, что этот разговор товарищей про Владимира Арбенина отражает действительный факт – поведение Лермонтова, вызванное неожиданной встречей с Наташей Ивановой. Нахлынувшее волнение заставило юношу вскочить и убежать, «как будто потолок над ним проваливается».
На самом верху страницы, над сценой для «Странного человека», есть небольшое стихотворение, которое говорит о новой вспышке чувства:
К*
Не верь хвалам и увереньям,
Неправдой Истину зови.
Зови надежду сновиденьем…
– Но верь, о верь моей любви [176] М. Ю. Лермонтов. Соч., т. I. стр. 213.
-
И через три страницы – еще одна сцена для драмы.
Лирический дневник, расположенный на страницах между этими двумя новыми сценами для «Странного человека», представляет собой большой интерес для характеристики внутреннего состояния Лермонтова в этот период его отношений с Н. Ф. Ивановой. Развлечения студенческой «веселой ватаги», похождения, который позднее послужат Лермонтову материалом для поэмы «Сашка», чередуются с возвышенными порывами. Картины окружающей зимней природы врываются в лирический дневник юноши-поэта.
На одной и той же странице – два стихотворения, написанные под впечатлением бушующих зимних метелей:
Прекрасны вы, поля земли родной,
Еще прекрасней ваши непогоды…
И дальше:
Метель шумит и снег валит… [177] М. Ю. Лермонтов. Соч., т. I, стр. 214 и 215.
На одной и той же странице «Песня» и «Небо и звезды»; на развороте «Счастливый миг», а на следующей странице «Когда б в покорности незнанья…» За небольшим наброском еще одной сцены для «Странного человека» идет стихотворение, обращенное «К кн. Л. Г(орчаков)ой», двоюродной сестре Н. Ф. Ивановой. Лермонтов рассказывает ей о горестях неразделенной любви, но она не понимает его страданий и недоверчиво качает головой. Семнадцатилетнюю девушку радуют блестящие наряды, все ей кажется привлекательным – люди, жизнь и свет. Но, – с горечью прибавляет Лермонтов:
Читать дальше