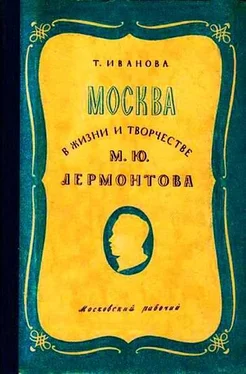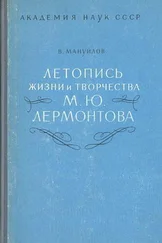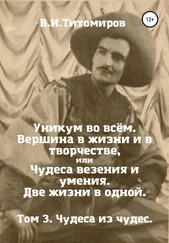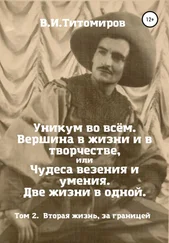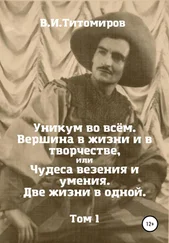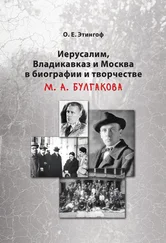«Великий князь так был милостив ко мне и так ободрил ласками своими, что я пустился на каламбуры, любезный дядинька».
Михаил Павлович спросил Костю, понравился ли ему в саду фонтан. Весь разговор шел по-французски. Костя ответил, не задумываясь: «J'aime beaucoup ses fables, monsieur» [133] «Я очень люблю его басни». La fontaine – фонтан; Lafonteine – французский баснописец.
. Великий князь рассмеялся и сказал: «А, и ты упражняешься в роде сем?»
Поражает тот расчет на эффект, та профессиональная выдержка, с которой преподносит свои каламбуры Костя. Он идет в этом отношении гораздо дальше своего отца, смущенного его непринужденным поведением в присутствии великого князя. Таким шутом-профессионалом рисует его Лермонтов:
На вздор и шалости ты хват
И мастер на безделки
И, шутовской надев наряд,
Ты был в своей тарелке;
За службу долгую и труд
Авось на место класса
Тебе, мой друг, по смерть дадут
Чин и мундир паяса [134] М. Ю. Лермонтов. Соч., т. I, стр. 254.
.
В своей эпиграмме Лермонтов предвосхищает и дальнейшее. Гвардейскому поручику Булгакову очень многое сходило с рук благодаря его шутовским проделкам с Михайлом Павловичем, который был грозой гвардии и осуществлял в русской армии николаевскую систему муштры. Булгаков пользовался его неизменным расположением.
Яркий пустоцвет, не способный к упорному труду и настойчивому стремлению к цели, К. А. Булгаков не развил своих разносторонних дарований и не сделал служебной карьеры. Позднейшие шутовские выходки К. А. Булгакова в Петербурге, его «шалости», «мастерство» на «безделки», по меткому выражению Лермонтова, – все это лишено было какой-либо практической цели.
В драме «Маскарад» Лермонтов в характеристике князя Звездича дает оценку людям, близким к типу К. А. Булгакова: «бесхарактерный, безнравственный, безбожный, самолюбивый, злой, но слабый человек» [135] М. Ю. Лермонтов. Соч., т. IV, стр. 263.
.
Новогодние мадригалы Лермонтова являются своеобразным выпадом юного поэта против фамусовской Москвы. Он подчеркивает в них все то, что выделяет девушек, которым посвящены мадригалы, из светской толпы: ум и оригинальность, талантливость, неспособность ко лжи. Бартенева и Додо обе занимаются искусством. Додо Сушкова – поэтесса, Полина Бартенева – певица.
Додо и Полина хорошо знакомы между собой. Сушкова не раз посвящала Бартеневой стихи и воспевала порывистый и глубокий, чистый и свежий ее голос:
Она поет… и сердцу больно,
И душу что-то шевелит,
И скорбь невнятная томит,
И плакать хочется невольно [136] «Певица. П. А. Бартеневой». Июнь 1831 г. «Стихотворения Ростопчиной», т. I, 1890, стр. 11.
.
В стихотворении, адресованном Бартеневой, Лермонтов дает возвышенное, романтическое понимание искусства, очень далекое от взгляда на искусство как на развлечение, лекарство от скуки, праздности и безделья, типичного для фамусовской Москвы.
Описывая новогодний маскарад в «Благородном собрании» и говоря о том, что некоторые маски раздавали стихи, Шаликов сообщает, что одно стихотворение было поднесено той, которая «недавно восхищала нас Пиксисовыми вариациями» [137] «Дамский журнал», 1832, ч. 37, № 3, стр. 47.
.
Вариации Пиксиса пела на благотворительном концерте 15 ноября 1831 года Прасковья Арсеньевна Бартенева.
Бартенева – девушка из обедневшей дворянской семьи. Благодаря прекрасному голосу ее приглашали на балы.
Скажи мне: где переняла
Ты обольстительные звуки,
И как соединить могла
Отзывы радости и муки?
Премудрой мыслим вникал
Я в песни ада, в песни рая,
Но что-ж? – нигде я не слыхал
Того, что слышал от тебя я! [138] М. Ю. Лермонтов. Соч., т. I, стр. 252.
Так приветствовал под новый год юный поэт Лермонтов юную певицу.
Несколько месяцев спустя в ее альбом напишет стихи другой знаменитый поэт:
Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает,
Но и любовь Гармония.
Эти строки из драмы «Каменный гость» вписаны Пушкиным 5 октября 1832 года в альбом в коричневом сафьяновом переплете, с бронзовыми застежками. Альбом принадлежал, как о том свидетельствует надпись, Pauline Bartenieff [139] Полине Бартеневой. Альбом хранился в Гослитмузее. Музей приобрел его в 1933 году в Париже. Теперь он в Пушкинском музее.
.
Додо Сушкова [140] Двоюродная сестра Е. А. Сушковой-Хвостовой, автора «Записок».
очень популярна среди передовой молодежи конца 20-х – начала 30-х годов. Современник Лермонтова – Огарев много лет спустя вспоминал девушку, жившую у Чистых прудов [141] Дом Пашковых. Не сохранился. На его месте дом № 12.
. Она была в той счастливой поре юности, когда «жизнь нова», «сердце живо», «и вера в будущность жива».
Читать дальше