Но сутки спустя неожиданная встреча, непредвиденный разговор заставляют меня пожалеть о половинчатости собственного заключения.
За тем же столом передо мной сидит человек с младенчески нежной, фарфорово-розовой кожей, с блестящими черными волосами, будто по линейке расчесанными на пробор. Неужели такая внешность может быть у того, кто уже два года кочует по фронтовым дорогам, сутками торчит на наблюдательном пункте, спит в блиндаже с коптящей свечой? Выходит, может. Трижды раненный, награжденный орденами и медалями командир капитулировавшего венгерского полка полковник Эндре Мольнар делится своими мыслями. Он неторопливо, взвешивая в уме каждое слово, произносит по-немецки фразу за фразой. Терпеливо ждет, пока Клейман переведет, благодарит кивком головы и продолжает. Когда меня зовут к телефону, полковник Мольнар задумчиво смотрит в окно, иссеченное косыми брызгами, машинально поправляет крахмальные манжеты, белеющие из-под обшлагов отутюженного мундира.
— Венгерские полки утомлены, деморализованы, — рассказывает он. — Безверие опустошает души офицеров и рядовых. Ради чего война? Когда нет ясного ответа, невозможно самому идти на гибель и вести других. Невозможно, господин генерал! Даже смелым людям, исполненным венгерского духа. Плен — крайний выход. Но когда человеку некуда деваться, он думает и о крайнем выходе — о плене, о самоубийстве. Я знаю: многие честные офицеры после Сталинграда и Воронежа задумывались о плене. И мне не вчера пришла на ум эта мысль. Но я продолжал воевать и делал это так, как требует присяга. Три раза проливал кровь, довольно туманно представляя себе, во имя чего ее проливаю. Слова, которые это объясняют, давно уже не действуют ни на меня, ни на большинство моих товарищей. Награды, которые компенсируют пролитую кровь, слабо тешат гордость…
Он задумался, замолчал. Клейман давно уже перевел последнюю фразу, а он все молчал. Нелегко давалась полковнику его исповедь.
— Добровольная сдача в плен — это измена присяге. Измена чему-то одному ради чего-то другого. Только ради того, чтобы выжить? На это идут люди, доведенные до отчаяния, потерявшие веру в свою родину… Когда я утвердился в мысли добровольно сдаться русским, то решил это сделать вместе со своими солдатами. Если такой шаг оправдан для меня, то он еще более оправдан для моих подчиненных. Родина была ко мне благосклоннее, чем к ним. Я не знал нужды, унижения, бесправия. Я принадлежу к классу тех, кого марксисты называют «эксплуататорами». Так, кажется? Хотя эксплуатировать мне некого и богат я лишь по сравнению с нищим… Но как я мог перейти к вам с белым флагом и повести за собой моих солдат, если в ваших газетах пишут, что надо истребить всех нас до единого? Это я читал сам в приказах маршала Сталина. Правда, в листовках вы обещаете не убивать пленных. Но чего не напишут в листовках, желая развалить армию Противника… Вас, вероятно, удивит, что кадровый венгерский офицер-«эксплуататор» давно интересуется Советской Россией. У нас мало и необъективно пишут о ней. Я читал даже мемуары царских офицеров, которые воевали против вас после революции. Вы, наверно, и не подозреваете о существовании таких книг?
— Эти мемуары у нас издавались, я читал многие из них.
Полковник Мольнар пропустил мой ответ мимо ушей. Он был слишком поглощен своим признанием.
— Так вот, генерал Деникин вспоминал с сожалением, что он издал приказ, обращенный к бывшим царским офицерам, поступившим на службу к большевикам: если офицеры немедленно не перейдут на его сторону, их ждет суровый и беспощадный полевой суд. Генерал Деникин признал, что его приказ, пугавший офицеров, был лишь на пользу большевистской пропаганде. Вы понимаете меня, господин генерал?
Я промолчал, лишь мельком глянув на Клеймана.
— У меня многолетний интерес к вашей стране, — продолжал венгр, — но любви нет. Слишком многого я у вас не понимаю. Я не верю геббельсовским сказкам о русских злодействах. Хотя знаю, что война ожесточает всех: и тех, кто защищается, и тех, кто нападает. Я не верил в злодейства, но не имел достоверных фактов иного рода. Я видел, что вы суровы даже к своим соотечественникам. Ведь у вас всякая сдача в плен, даже тяжелораненого, считается изменой. Вы не подписали известную конвенцию о пленных двадцать девятого года. Неужели вы отрекались от своих пленных, посчитав их всех изменниками? Но, отказавшись подписать конвенцию, вы не взяли на себя и обязательств по отношению к пленным, захваченным у ваших врагов. И это для меня тоже необъяснимо…
Читать дальше
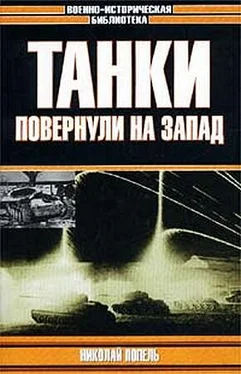







![Николай Марчук - Танки, тёлки, рок-н-ролл [litres]](/books/405296/nikolaj-marchuk-tanki-telki-rok-n-roll-litres-thumb.webp)
