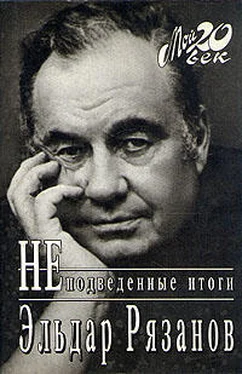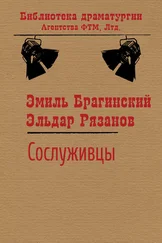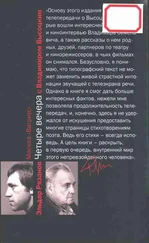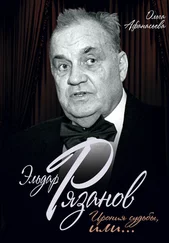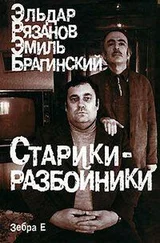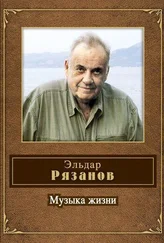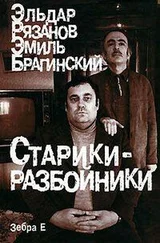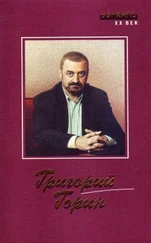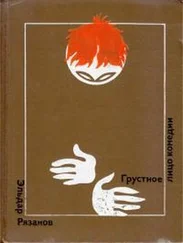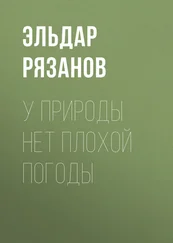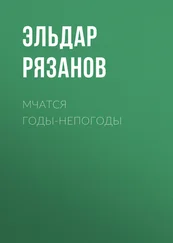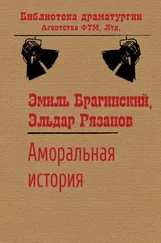А иной раз читаешь статью о новом фильме – вроде все верно. Когда же посмотришь на подпись, то трудно сдержать возмущение: «Боже, да у этого человека руки по локоть в кинематографической крови. Скольким фильмам помешал родиться сей идеологический акушер! Скольким учинил членовредительство!» Создается впечатление, что редакции не вдаются в биографии печатаемых авторов. И зря! Сейчас кое-кто не прочь свести счеты со своими оппонентами, пользуясь тем, что критике дозволено все.
П.С: Ну, этого всегда хватало! Для совести тарификацию пока не придумали. Но работать все равно надо... Что дальше?
Э.Р.: У меня мало осталось времени – хочу еще несколько фильмов поставить, что-то написать...
П.С: До какой-то поры вы сотрудничали с Эмилем Брагинским – и только. Потом тандем распался. Почему? В «Небесах обетованных» рядом с вами появилась молодая сценаристка Генриетта Альтман, «Предсказание» родилось из вашей же одноименной повести без чьего-либо участия. Что, соавторство стало теперь для вас менее привлекательно?
Э.Р.: Нет, дело не в том. С Брагинским дуэт распался потому,что невозможно жить двум разным людям в унисон очень много лет. И так мы проработали вместе больше четверти века. Редкий брак столько длится (смеется)! Естественно, наступает время, когда пути расходятся. То, что продолжало нравиться Брагинскому, разонравилось мне. Или наоборот – считайте, как хотите. Ни ссор, ни скандалов не было – союз умер своей смертью.
Сейчас собираюсь с Владимиром Куниным делать сценарий по его очень симпатичной повести «Русские на Мариенплатц». Так что соавторство и сегодня не вызывает у меня идиосинкразии. Здесь все диктует целесообразность: получился бы хороший фильм. И когда для этого необходим напарник, замечательно, если он найдется. Конечно, желательно, чтобы соавтор оказался единомышленником, коммуникабельным, была бы совместимость групп крови. Обычно все выясняется уже на стадии выдумывания сюжета. И дальше – либо процесс совместного творчества продолжается, либо мы мирно расстаемся, подчас сохраняя прекрасные дружеские отношения.
П.С: Как происходит переплавка драматургического материала, родившегося в обоюдных усилиях, когда за работу принимается уже только один из соавторов – режиссер Эльдар Рязанов, переводя доверенное бумаге в фильм?
Э.Р.: Начинается форменный режиссерский диктат (смеется)! Но если серьезно, то скажу так: отталкиваясь от написанного, я все-таки снимаю свое кино. Впрочем, не мне об этом судить...
П.С: Эльдар Александрович, мне кажется, что с «Небес обетованных» началось новое кино Рязанова – с большей публицистической открытостью, с элементами, если хотите, фантастического реализма. Насколько это органично, вопрос особый. Для меня, например, оказалось неожиданностью воспарение героев на паровозе над твердью земной – образ выразительный, но выбивающийся из вашей стилистики. Или в «Предсказании» – появление молодого двойника героя. Андрей Соколов разительно не похож на себя в возрасте Олега Басилашвили...
Э.Р.: Зато Олег похож на себя в возрасте Соколова.
П.С.: Требуется некое допущение, чтоб признать их единство.
Это первое. Во-вторых, тот же прием использовал Марлен Хуциев в «Бесконечности». И с такой же, на мой взгляд, убедительностью. Интересно, кто вперед додумался? Впрочем, что я говорю – додумался... В искусстве это уже стало общеупотребительным приемом. Вот я бы хотел...
Э.Р.: Не много ли сразу вопросов?.. Кто раньше придумал, не знаю – фильма Хуциева не видел. Моя повесть написана в девяностом году. Хуциевской картины еще не было. Наверно, здесь случай, когда каждый из нас пришел к решению самостоятельно.
У меня есть стихотворение, из которого и вышла повесть, – оно родилось лет десять назад: лирический герой встречает в лесу себя молодого, и между ними завязывается разговор. Без знакомства с моими стихами нельзя понять каких-то мотивов и в моих фильмах. Критикам и киноведам здесь видятся отклонения. А это не отклонения. Режиссер, пишущий стихи, пьесы, прозу, ведущий телевизионные передачи, естественно, выражается во всем, что он делает. Извивы, так сказать, этой души проявляются в совокупном его творчестве. И когда в «Небесах обетованных» взмывает в облака паровоз, это «вдруг» предопределено целым рядом вещей.
П.С: Я сказал о другом – о моем зрительском восприятии. Оно не подготовлено к вашему «вдруг» образным строем картины.
Э.Р.: Зрительское восприятие... Вы, наверно, пошли на фильм еще и потому, что в титрах моя фамилия, фамилия режиссера, чьи картины видели. Но может он как-то меняться?.. Да и все ли вам удавалось посмотреть, что вышло из его рук? Я уже говорил: Ипполит, который в шубе становится под душ, вызывал подобную же реакцию, а прошло пять лет, и люди привыкли и поверили, что такое приемлемо в искусстве.
Читать дальше