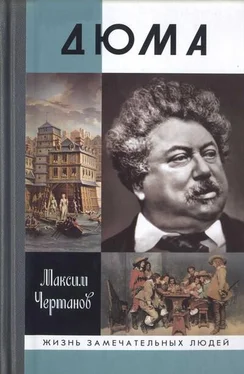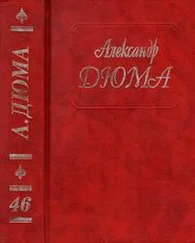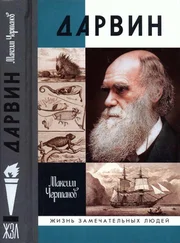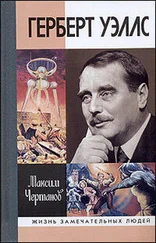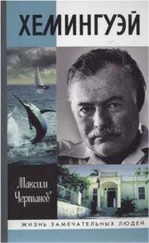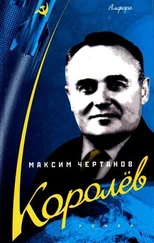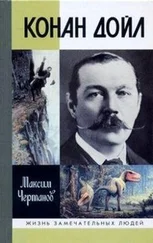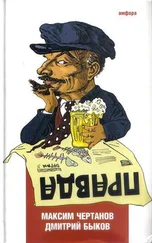Когда 10 мая 1871 года заключили мир ценой Эльзаса и Лотарингии и пятимиллиардной контрибуции, Париж восстал. Одним из участников Парижской коммуны был Анри Бауэр, сын Дюма, которого тот не признал, не воспитывал и, быть может, даже не видел. Он учился на юридическом факультете, был политактивистом, незадолго до краха империи сидел в тюрьме, после подавления коммуны был опять арестован и сослан в Новую Каледонию. Президент Греви его помиловал, с 1878 года он жил во Франции, стал журналистом, критиком. «Весь Париж» его знал, его описывали как «красивого гиганта с гривой кудрей», вспыльчивого, добродушного, обожавшего молодежь; либерал до мозга костей, он бился за права обиженных — женщин, гомосексуалов, евреев, негров; пацифист по убеждениям, всегда был готов схватиться за оружие. Он умер в 1915 году при самом прогрессивном президенте до Второй мировой войны — Анри Пуанкаре. У него было два сына, один — Жерар Бауэр (1888–1967) — стал писателем, членом Гонкуровской академии, лауреатом всевозможных премий. Гены не пропадают зря…
Судьба главной героини Дюма — Республики — складывалась непросто. Монархисты в парламенте давили, в 1873 году Тьер подал в отставку, рассчитывая, что ее не примут, но просчитался. Сменивший его маршал Мак-Магон готовил почву для монархии, отовсюду изгонял республиканцев, поощрял духовенство, но монархисты не смогли столковаться о кандидатуре нового короля, и в 1875 году парламент большинством (всего в один голос) принял конституцию, утверждавшую республику. В 1876 году на первых выборах после империи неожиданно для власти победили умеренные республиканцы (Тьер был избран, ждали его нового возвышения, но он умер); Мак-Магон дважды разгонял нижнюю палату, пытался совершить переворот, возмущенные горожане не позволили. В 1879 году президентом стал республиканец Греви, при котором приняли законы об обязательном светском обучении, отмене цензуры, избрании мэров небольших городов. Оказалось, что так жить совсем не страшно, и о монархии стали забывать. Потом было много всякого — плохие и очень плохие президенты, скандалы, покушения, коррупция, позор Виши — но тиранической власти одного человека, который правит, пока его не свергнут, больше никогда не было…
В 1872 году прах Дюма перезахоронили в Вилле-Котре; Гюго в те дни писал его сыну: «Александр Дюма из тех людей, которых можно назвать сеятелями культуры; он оздоровляет и укрепляет дух необъяснимым, веселым и сильным светом; он оплодотворяет души и умы; он рождает потребность в чтении, он взрыхляет человеческую почву и засевает ее…» В 1883 году ему поставили памятник на площади Мальзерб (ныне Катру) по проекту Гюстава Доре: Дюма сидит на горе книг, у подножия — д’Артаньян и трое молодых людей с книгами. В 1906 году там же поставили памятник Дюма-сыну, а в 1913-м — Дюма-деду. Последний фашисты снесли, но в 2009 году его восстановили, а копию установили, как хотел Дюма-отец, на Гаити. В 2002 году Жак Ширак издал указ о переносе праха Дюма в Пантеон, в одну крипту с Гюго и Золя. Мишель Леви посмертно опубликовал «Сотворение и искупление», издательство Калман-Леви выпустило академическое собрание сочинений, но работы Дюма продолжают находить — процесс, вероятно, бесконечный. Кредиторы продолжали его преследовать и мертвого, предъявляя иски аж до 1934 года… Но что же он сам, что было с ним осенью 1870 года?
Об этом не известно почти ничего. Моруа: «Вскоре больной почти перестал говорить. Он не страдал, он чувствовал, что его любят, и больше ничего не желал». Господи, откуда нам знать, чего он желал?! Дюма-сын рассказал о последних днях отца (в основном в письмах к Ферри и Жорж Санд), но доверять ему следует осторожно. По его словам, отец много спал, иногда играл с внучками, если разговаривал, то о прошлом, навещал его Монини, директор местной гимназии; был слаб, но умиротворен. Из письма художнику Шарлю Маршалю: «…он совершенно не страдал… Разум, даже остроумие не изменили ему до конца. Он высказал много интересных мыслей… Однажды, поиграв с детьми в домино, он сказал: „Надо бы что-нибудь давать детям, когда они приходят играть со мной, — ведь это им очень скучно“. Живущая у нас русская горничная преисполнилась нежности к этому тяжелому больному, неизменно улыбчивому и доброму, который был беспомощен, как ребенок… Отец отдыхал на лоне природы и в лоне семьи, видя перед собой безбрежное море и безбрежное небо, а вокруг себя — детей… Наконец-то он чувствовал себя счастливым в этой покойной и уютной обстановке, которая столь редко встречалась ему в его рассеянной и расточительной кочевой жизни, что он наслаждался ею всем своим существом… Всякий день он находил веселые или трогательные слова…» О дне смерти: «…мой отец скончался, вернее — уснул, так как он совершенно не страдал. В прошлый понедельник, днем, ему захотелось лечь; с этого дня он больше не хотел, а с четверга уже не мог вставать. Он почти беспрерывно спал. Однако когда мы обращались к нему, он отвечал ясно, приветливо улыбаясь. Но с субботы отец стал молчалив и безразличен. С этого времени он всего один-единственный раз проснулся, все с тою же знакомой Вам улыбкой, которая ни на секунду не покидала его. Только смерть могла стереть с его губ эту улыбку». И, разумеется, больной перед смертью изъявил желание исповедаться — правда, когда священник пришел, он был без сознания.
Читать дальше