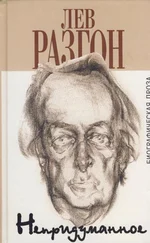Но однажды мягкий и деликатный евангелист Петр Селиверстович с грустью мне сказал:
– Вижу, Мануилыч, – не нравятся тебе наши псалмы… Конечно, они, может, и корявые… Ведь про божественное сочиняли только простые люди, малоученые, ни стихи, ни музыку складывать не умеем. А только скажи: неужто образованные никогда к божественному не обращались? И про Христа не писали?
Я – как мог – рассказал своему собеседнику о том, сколько великих художников, поэтов, писателей, музыкантов обращались к евангелистским сюжетам…
– Ну, спой тогда что-нибудь божественное…
Я не мог вспомнить ничего такого, что могло подтвердить мои слова.
И вдруг я вспомнил песню, которую в детстве пел в школьном хоре и очень любил…
Я негромко запел:
Был у Христа-младенца сад.
И много роз взрастил он в нем.
Он трижды в день их поливал.
Чтоб сплесть венок себе потом…
…Селиверстыч замер, схватившись руками за голову. Не сводя с меня глаз, налитых слезами, он слушал дальнейшее развитие этой трогательной истории. Когда дивные розы достигли своей полной красы, будущий спаситель позвал в гости детей.
Нахальные посетители сорвали по цветку, и от пышного сада ничего не осталось.
Как ты сплетешь себе венок?
В твоем саду нет больше роз! -
спросили наиболее совестливые гости…
"Вы позабыли, что шипы
Остались мне, – сказал Христос…
Вокруг меня, кроме Селиверстыча, стояли и другие сокамерники.
Не стыдясь, они плакали, слушая окончание жалостливой песни:
Из шипов они сплели
Венок колючий для него.
И капли крови вместо роз
Чело украсили его…
– Какой псалом, Мануилыч! Какой великий божественный псалом! – сказал Селиверстыч, поднимая свое залитое слезами лицо. – Запиши нам его, помоги нам его выучить, и Бог тебя никогда не оставит!..
И они выучили его, и Бог меня действительно с тех пор не оставляет…
И я в этом начал убеждаться почти немедленно.
– Без вещей. В контору! – объявил мне надзиратель. Начальника тюрьмы я не видел почти две недели, и, как мне показалось, он с трудом меня узнал. Очевидна была разница между полутрупом в тюремной больнице и почти «цветущим» арестантом. Но он был со мною – как и положено начальнику – официален и немногоречив.
– Распишитесь здесь, – сказал он мне, – что вам объявлено о восстановлении кассационного срока начиная с этого часа. Вас отвезут в краевой суд, где дадут ваше следственно-судебное дело, а также письменные принадлежности, чтобы вы могли сделать все выписки для кассационной жалобы.
…Здорово! Я, признаться, уже почти и забыл про это обещание начальника тюрьмы, я считал, что он меня просто всеми средствами уговаривал снять голодовку и был ему благодарен за это. Но чтобы добиться!!! И как он это сделал?
Но начальник тюрьмы, очевидно, не намеревался бросаться мне на шею и рассказывать о своей борьбе за правосудие…
– У меня нет сейчас закрытой машины для перевозки заключенных. Вы согласитесь поехать в суд в кузове открытого грузовика?
…О, господи! Он еще об этом спрашивает!!! Этот сырой день позднего сентября показался мне таким ясным, теплым, приятным! Привалившись к передней стенке кузова, рядом с конвоиром, я жадно разглядывал знакомые улицы и дома. Мы проехали мимо дома, где я жил. Женины мальчики – Витя и Толя – играли на тротуаре. Они посмотрели вслед промчавшемуся грузовику, и я им помахал рукой… (Через два дня меня вдруг вызвали «на свиданку», и через решетку я целых пятнадцать минут разговаривал со своей квартирной хозяйкой Женей, узнавшей от своих мальчиков, что «дядю Леву везли из тюрьмы»…)
В краевом суде меня отвели в какую-то пустующую канцелярию. Через некоторое время туда пришли два служителя. Я не без интереса взял в руки довольно толстый том. Он был приготовлен для сдачи в архив, в нем были: мое следственное дело, которое я уже читал по окончании следствия, и протоколы судебного заседания. Я начал с того, что снова стал перечитывать донос Игнациуса, показания его и достойной его супруги, показания свидетелей, свои собственные показания, протоколы очных ставок… В какой малой степени они отражали действительность! Из них исчезло все: накал спора, драматизм встреч «глаз в глаз» с бывшими друзьями, исчезло все пережитое, перемученное, перестраданное… И я невольно подумал, как ничтожно мало узнает будущий историк о том, что происходило в этих следовательских кабинетах!
Вдруг на границе между следственным делом и судебным я увидел документ, которого не было, когда я подписывал «двести шестую». Это был конверт, на котором хорошо мне знакомым почерком было написано:
Читать дальше