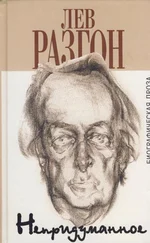Я не стану здесь рассказывать, как я «раскрепился». У меня это тоже гладко не прошло. Помощник лагерного прокурора, ведавший раскреплением, меня не пропустил. Это был маленький чернявый украинский еврей – невежественный подонок, пьяница и хам, больше всего боявшийся, чтобы его не заподозрили в том, что он покровительствует «своим». У этого выродка была только одна хорошая черта-он боялся своего отца. А. отец-крошечного роста, кряжистый старичок – работал диспетчером автоколонны. Мы с ним и знакомы не были, но когда я после посещения прокурора пришел на автостанцию, диспетчер бесцеремонно меня спросил, почему я такой и какое у меня несчастье?.. Узнав, что у меня есть мать, которая меня ждет, он сурово сказал:
– Никуда не уезжайте! Этот босяк, апикойрес, галамыжник будет на улице ночевать, если он не пустит еврея к своей родной маме!.. Завтра вы получите эту бумажку, можете мне поверить!
И завтра я получил эту бумажку! И уехал в Княжпогост и там в самом настоящем районном отделении милиции получил паспорт. Ну, паршивый паспорт, конечно, но все же паспорт. И я уже довольно много знал, чтобы не относиться к нему пренебрежительно. Миллионы людей, даже и вовсе никогда не осужденные, мечтали о таком паспорте, совершенно для них недоступном!.. А с этим паспортом я мог получить отпуск, мог уехать, уехать в Москву, как-никак у меня на руках было удостоверение, что я являюсь сотрудником Устьвымлага НКВД, сокращенно: «сотрудник НКВД», еще сокращенней и грозней – «сотрудник органов»… Имея такое удостоверение, можно рискнуть поехать в Москву и с подмоченным паспортом!
В октябре сорок пятого года я приехал в Москву! Я удержусь от соблазна вспомнить и еще раз пережить приезд в Москву, встречу с мамой, братьями, с долговязой девчонкой, которую я запомнил пухлым годовалым ребенком… С некоторыми друзьями, с прошлым, которое, оказывается, существовало, не исчезло полностью, сохранилось – пусть и в странном, деформированном виде.
Значит, я приехал, не прописанный в старом доме моего детства, ел вкусности, изобретаемые для меня мамой; ходил с дочкой в цирк и зоопарк; сидел в незнакомых мне квартирах, куда я приходил передать привет или письмо и слушал плач матери или жены, которые еще должны были ждать и ждать, чтобы увидеть своего… Вечером пировал с друзьями, которые глядели на меня как на выходца с того света и считали необходимым поить меня всеми забытыми мною напитками…
И вот я сижу – как некогда – в квартире старого дома, в переулке на Петровке у моего старого друга – Туей, пью жидкий чай и крепкую водку, и мы перебираем всех наших старых друзей – живых и мертвых, – мы вспоминаем их так, как будто и не было этих лет… Кроме того, что Туся была очень верным и надежным другом, она еще была и бесстрашна. Как я понимаю, одним из источников этого бесстрашия и уверенности в возможности невозможного была ее обаятельность, к действию которой она привыкла, и нежелание представить себе всю степень трудностей, которые следовало преодолеть. Во всяком случае, она настолько решительно считала, что я должен остаться в Москве и начать работать в редакции литературного журнала (только-то!!!), что почти уверила и меня в возможности этого…
Для начала надобно было сделать главное: уволиться из лагеря. И тут-то Туся вспомнила, что в эвакуации она работала в газете большого оборонного комбината, а парторгом ЦК там был один человек, а теперь этот человек работает в ЦК и ведает, кажется, органами, и что он иногда даже звонит ей, хотя она – Туся – не представляет себе, о чем же можно с ним говорить!.. Но тут у нее предмет для разговора сразу нашелся. Она разыскала телефон своего знакомого, тут же позвонила ему, несколько минут своим быстрым воркующим голоском говорила ему какие-то светские, ничего не значащие слова, а потом – как бы между прочим – сказала, что вот есть у нее приятель, которому надо помочь снова начать литературную работу, бросив другую, там, на Севере, где ему и делать-то нечего…
Словом – как в сказке – на следующий день я сидел в ЦК у Тусиного знакомого. Он был – как и положено в этом учреждении – прост, внимателен и спокоен. Он деловито спросил, откуда я хочу уволиться, сколько лет у меня было, какая статья, и, очевидно, остался удовлетворен ответами. Потом – при мне же – он снял трубку вертушки и позвонил «товарищу Тимофееву» – даже генералом его не назвал. И разговаривал с ним спокойно-равнодушно, как Тарасюк с мелким вольняшкой. Сказал, что вот есть-де такой, в прошлом литературный работник, а теперь он собирается вернуться к старой своей работе, а посему пусть товарищ Тимофеев даст указание уволить его с работы… Положив на рычаг трубку, человек из ЦК сказал мне, что товарищ Тимофеев просит завтра к нему зайти…
Читать дальше