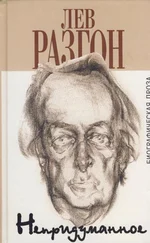Спектакль кончился. В фойе джаз из зеков Комендантского лагпункта заиграл наимоднейшее польское танго, офицеры начали выводить в круг своих толстых и румяных дам, чьи туалеты, несмотря на все переделки, все же сохраняли в чем-то элегантность и стиль чужой жизни. Смотреть на этих танцующих, после той красоты и подлинного артистизма, которое я только что видел, было почти тягостно. Я вышел на улицу. Был конец ноября, и недавняя метель намела вокруг дома огромные сугробы. Небо прояснилось к начинающемуся сильному морозу, и звезды горели – как всегда зимой – с мрачной силой и отчужденностью от всего живого.
У «артистического» подъезда клуба я услышал возню и знакомые конвойные возгласы: «Чего ползаете, как вошь по мокрому!..», «Давай, разбирайся, живо!», «А ну, становись, быстро!», «Разговоры!» Я завернул за угол и увидел столь привычную, совершенно обыкновенную сцену: арестанты – мужчины и женщины – одетые почти одинаково в ватные штаны, мятые телогрейки и уродливые бушлаты, устало, привычно-нехотя выстраивались в конвойную колонну, конвой торопил их, материл, он спешил отвести зеков на Комендантский, чтобы успеть еще вернуться и если не потанцевать, то хоть посмотреть на танцы. Я всмотрелся в чем-то показавшиеся мне знакомыми.лица арестантов. Не сразу я понял, что они мне показались знакомыми потому, что я их только что видел. Красивыми, молодыми, элегантными, счастливыми, несмотря на все переживаемые ими горести опереточной любви. В этих, подконвойных лицах ничего этого уже не было, ни малейшего признака. Они стояли обыкновенными, нашими, со всеми следами возраста, многих этапов, дикой усталости и такого мне знакомого желания скорее, как можно скорее дойти до теплого барака, раздеться, выпить кружку кипятка с куском хлеба…
А все равно они, наверное, были благодарны меценатам за то, что им не надо было вставать на развод, идти в темноте в лес на непереносимо тяжелую и губящую людей работу!
Выползов был меценатом и поэтому добрее и лучше многих других. Большой карьеры он не сделал – такие люди не достигают обычно каких-нибудь особых начальственных высот, – он и после Устьвымлага начальствовал в других лагерях, дослужился до большой полковничьей пенсии и, не потеряв нисколечко вкуса к жизни, к изящному, к искусству,.вероятно, и сейчас еще живет в хорошем, заранее где-то на юге построенном доме, полном красивых и дорогих вещей. Бог с ним!
Генерал-майор Тимофеев _
Фамилия этого генерала была знакома многим сотням тысяч заключенных, которые прошли – или же остались – в лесоповальных лагерях Урала, Коми, Карелии, Архангельщины, Сибири…
На разводах читались приказы о расстрелах беглецов и отказчиков за «контрреволюционный саботаж», о новых сроках за небрежное отношение к лошадям, машинам, вещдовольствию и другому казенному имуществу. Включая, естественно, и самих зеков. Ибо за «членовредительство» тоже давали срок. И все эти приказы заканчивались словами: «Подлинный подписал: начальник Главного управления лагерей лесной промышленности НКВД СССР – генерал-майор Тимофеев». Словом – это был наш почти главный тюремщик. Не всякому удается увидеть тюремщика такого ранга. Мне – удалось. Два раза. И я хочу об этом рассказать. Но прежде мне предстоит довольно длинно изложить предысторию этого события. Пусть возможный читатель меня за это извинит.
В силу причин, неподвластных нашей воле, всякий срок кончается. Еще шла война, когда начали кончаться сроки у пятилетников, еще несколько лет – и должны были начать кончаться сроки у восьмилетников: их тогда в лагерях было больше всего. И с этим надо было что-то делать. Путей для этого было много. Во-первых, давать новые срока по новым «лагерным» делам. Во-вторых, задерживать освобождение или «до конца войны», или же просто «до особого распоряжения». А уже освободившихся считать вроде как бы и вольными, но на положении ссыльных: без паспортов, без права выезда не только что за пределы лагеря, но и за пределы отведенного пункта. И опять же с обязанностью делать, живя за зоной, то же самое, что и в зоне: пилить лес, чинить машины, шить бушлаты, щелкать на счетах… Это состояние называлось «быть закрепленным за лагерем до особого распоряжения». В двух категориях – «второсрочника» и «закрепленного» мне пришлось быть. Пожалуй, я об этом расскажу сейчас, так как не знаю в каком другом месте этих воспоминаний я смогу это сделать.
У меня было пять лет, и мой срок кончался 17 апреля 1942 года. Я был не очень приметным арестантом, и, вероятно, специально мне новый срок бы не дали, если бы не одно обстоятельство. В начале войны, выполняя какие-то указания «об усилении бдительности», на всех лагпунктах начальники стали хватать арестантов, которых они или не хотели освобождать, или же просто желали по каким-то своим соображениям убить. Делалось это довольно просто. Стукачи писали в «агентурках» то, что им диктовали «оперы». Подобранные уголовники за пачку махорки давали необходимые свидетельские показания. Обвинение всегда было одно и то же: пораженческая агитация. За это давали срок – до десяти лет. В нужных случаях агитация становилась «групповой агитацией». Это уже была статья 58-10 и 58-11 -создание организации. За это-расстреливали. Со всех лагпунктов в Управление отправляли людей, которых заново арестовывали, держали в местной тюрьме, допрашивали. В Вожаеле их судила «Лагерная спецколлегия», кого расстреливали, а кому давали новые срока и отправляли на штрафняк, где возможность выжить была отнюдь не гарантированной.
Читать дальше