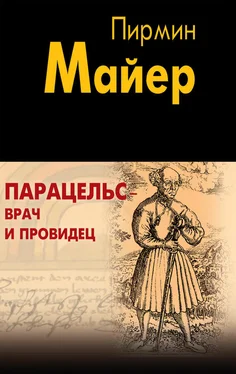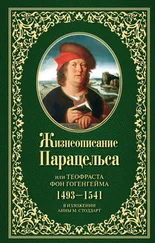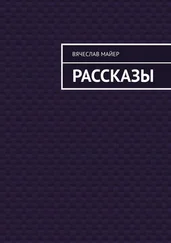С другой стороны, при сравнении этих, на первый взгляд, противоположных людей, нельзя пройти мимо впечатляющих моментов сходства между ними. Оба выросли в атмосфере суровых горных долин Швейцарии, под шум стремительных горных речушек. Оба всеми силами радели за дело единства Швейцарского союза. В одной из ранних исследовательских биографий Николауса, составленной Робертом Дюррером, он назван «первым швейцарским патриотом, который как в теоретическом, так и в практическом отношении олицетворял высокий принцип Швейцарского единства, возвышающегося над узким кругом кантональных интересов» [149] . Такая позиция характерна также и для Гогенгейма, хотя его влияние, по сравнению с авторитетом почитаемого при жизни отшельника, осталось незамеченным. Если в 1481 году швейцарская способность к компромиссам вылилась в продолжительный мир, то в 1531 году, напротив, выбор был сделан в пользу войны, которая принесла удовлетворение только одной из враждующих сторон. Помимо патриотизма Николаус придерживался позиции «последовательного пацифизма» [150] . Впрочем, исследователь должен отдавать себе отчет в том, что бывший солдат, сражавшийся под Нюрнбергом (1449), и военачальник, руководивший действиями своего подразделения в Тургау (1460), вкладывал в это слово несколько иное значение, отличное от современного понимания. В этом смысле, точка зрения Цвингли и Гогенгейма, называвших военную службу граждан Швейцарского союза на чужбине «развратом и продажностью», представляется более последовательной. Не следует забывать, что как отшельник из горного ущелья Унтервальдена, так и крепостной из Айнзидельна стали величайшими подвижниками духа, подняв на непревзойденную высоту уровень своего религиозного сознания. Один пытался приблизиться к совершенству путем аскезы и созерцательной жизни, другой прославился как светский богослов, пророк и толкователь Библии, мысли которого были наполнены одновременно и социальным, педагогическим, и даже «экологическим» содержанием. Наконец, личности обоих как при жизни, так и тем более после смерти были окружены легендой.
Отделение легенды от действительности произошло только в исследованиях XX века. В отличие от рассказов о Телле и Винкельриде, исследовательские биографии, основанные на тщательной проработке источников, ярко высветили личности Николауса и Гогенгейма на фоне эпохи, очистив их образы от коросты небылиц.
В 1531/1532 годах, когда Теофраст фон Гогенгейм заново обдумывал свои соображения по поводу поста брата Клауса, он находился в русле теоретических размышлений своего времени. Вопросы поста, так же как и темы, связанные с минеральными источниками или горным делом, интересовали не только Гогенгейма. Более того, можно говорить о существовании в XVI веке на территории Верхней Германии международного объединения по изучению личности брата Клауса и его эзотерического образа жизни. В это условное объединение входили авторы, которые, частично из журналистских побуждений, частично руководствуясь научными интересами, пытались понять специфику многолетнего поста знаменитого отшельника. Помимо богословских рассуждений, в их работах присутствуют объяснительные модели естественнонаучного характера. При чтении сочинений, вышедших их этого круга авторов, вспоминаются выводы Дюррера о том, «что современники отшельника верили, будто он вообще не принимает пищи. Так что, если бы речь шла об исключительно историческом вопросе, никому бы не пришло в голову оспаривать столь убедительные свидетельства» [151] . Другими словами, многие авторы, среди которых был и один из самых критических умов этого времени, по примеру Себастьяна Франка, подвергали сомнению все, что их окружало, но исключали даже саму возможность обмана в случае с братом Клаусом. [152]
В связи с политической обстановкой, сложившейся в Швейцарии к 1531 году, брат Клаус возглавлял список наиболее дискуссионных тем. По аналогии с явлением кометы, можно предположить, что оба врача, Вадиан и Парацельс, приблизительно в одно и то же время скрупулезно размышляли над актуальными событиями.
Фон Ватт, описывая в Хронике санкт-галленского аббатства события 1481 года, восхваляет образ жизни «брата Клаузена фон дер Флю» и без тени сомнения пишет: «В течение 18 лет до своей смерти он не нуждался в земной пище и вел благочестивую жизнь» [153] .
Несмотря на широкие познания Вадиана, в данном случае он основывался на информации других хронистов. Скорее всего, он использовал в качестве источника «Хронику Германна Милеса» из Санкт-Галлена, автор которой также констатирует 18-летний срок поста Николауса. [154]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу