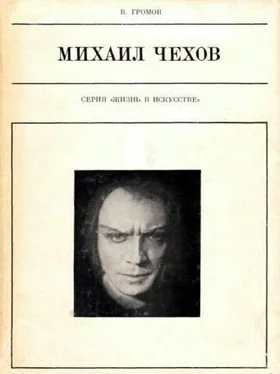Худой, небольшого роста, всегда молодо выглядевший в жизни, Михаил Александрович в этой роли казался совсем подростком, безусым юнцом, таким маленьким и таким невероятно худым, что уже от одного этого у зрителя начинало щемить сердце. И с первыми же звуками его наиробчайшего голоса это щемящее чувство начинало расти и быстро достигало апогея — ведь весь рассказ ведется от лица этого молодого чиновника, трепещущего, дрожащего, обливающегося холодным потом и вместе с тем угодливо хихикающего.
Не было ни единого слова, ни единой фразы, которые не были бы сказаны с точки зрения чиновничка, его пришибленным, еле слышным голосом. Но таким голос только казался. На самом же деле он скоро начинал пронизывать весь зрительный зал, врезался в ваши уши, в вашу душу — и вы начинали понимать, что речь этого сжавшегося, крошечного человечка звучит страшно, с силой, присущей Башмачкину из гоголевской «Шинели», или, вернее, образам Достоевского. Настораживали уже с самого начала сверхпочтительные интонации первых фраз рассказа:
«В пятницу на масленой все отправились есть блины к Алексею Иванычу Козулину. Козулина вы не знаете; для вас, быть может, он ничтожество, нуль, для нашего же брата, не парящего высоко под небесами, он велик, всемогущ, высокомудр. Отправились к нему все, составляющие его, так сказать, подножие. Пошел и я с папашей».
Вы слушали эту захлебывающуюся от трепета речь и невольно думали: «Как же не умер этот юнец от робости? Как не лопнуло его заячье сердце, когда он переступал порог дома всемогущего Алексея Ивановича? До какого же самоунижения надо дойти, чтобы так, хихикая и дрожа, начать свой рассказ? И чем будет это ничтожество, когда повзрослеет?»
Зрители получали ответы на все эти вопросы, когда рассказ о блинах у Алексея Ивановича катился даль гае и разворачивалась картина страшной издевки над человеком, зверского растаптывания его души.
Ответы эти звучали и в авторских словах и в том подтексте, которым была наполнена, даже переполнена каждая фраза, произнесенная Михаилом Александровичем. В интонациях его чиновничка властно приковывало внимание непрерывное смакование всего, каждой мелочи, каждой детали. Оно начиналось с почти сладострастного описания блинов — «пухленьких, рыхленьких, румяненьких», а затем осетровой ухи, которую ели после блинов, а затем куропаток с подливкой, которых ели после ухи и т. д. и т. д. И сопровождалось подобострастным прихихикиванием, особенно, когда, закурив сигары, все слушали, а его превосходительство Алексей Иванович говорил. Тут папаша ежеминутно толкал своего сынка в бок и говорил:
— Смейся!
И сынок «раскрывал широко рот и смеялся. Раз даже взвизгнул от смеха, чем обратил на себя всеобщее внимание». И тут впервые, не веря даже в столь высокую надежду, папаша шепотом произносит то, что является заветнейшей мечтой и
его и сынка:
— ... Может, в самом деле, даст тебе место помощника письмоводителя!
Так вот она — их несбыточная мечта, то, ради чего можно лечь под ноги начальства и с восторгом дать себя растоптать! Тут нарастание рассказа становилось почти страшным.
Голос Чехова трепетал, ломался и дрожал, словно его чиновничек захлебывался и задыхался в ожидании невероятного счастья, словно он опьянялся до головокружения каждым словечком его превосходительства, особенно, когда тот начинал рассказывать, что было с ним прежде и чем он стал теперь. Еще бы! Ведь в этой истории чиновничек ярко увидел самого себя! Ведь он сейчас тоже, как в давние времена его превосходительство, без сапог, в рваных штанишках, со страхом и трепетом начинает свои путь, обуреваемый мечтой: «Может быть, со временем и того. судьбы человеческие за вихор возьмешь!»
Вот отчего лихорадка треплет панашу и особенно сынка. Вот почему и Курицын, который прежде измывался над Алексеем Ивановичем, а матушку его изругал и напугал — «так и померла старушечка», — теперь по приказу его превосходительства трагедию представляет, скорчив рожу и распевая хриплым голосом:
— Умри, вероломная! Крррови жажду!!
Теперь этот Курицын — после сытных-то блинов — даже большой кусок ржаного хлеба, посыпанный перцем, съедает «при громком смехе»: этого Алексей Иванович потребовал!
Немудрено, что когда «Козулин ткнул пальцем в сторону папаши» и приказал ему бегать вокруг стола и петь петушком, юного чиновника — Чехова словно поднимала к небу волна неописуемого счастья. От восторга у него не попадает зуб на зуб, когда он с упоением рассказывает, как папаша засеменил вокруг стола, а он — за ним:
Читать дальше