Деревня. июнь. смирение
Долго думал: а почему в деревенских домах всегда такие низкие двери?
А для смирения — ходишь и всё время кланяешься. Не поклонишься — так голову разобьёшь.
Двадцать грамм. я
Однажды, когда я лежал на кафельном полу в умывальной комнате, и меня при этом пинали сапогами пять или шесть чечено-ингушских военных строителей, я вдруг задумался: а как же это я дошел до жизни такой?
Пинали, впрочем, не очень сильно, больше для того, чтобы унизить, чем покалечить или убить, — в дисбат никому не хотелось, даже самым гордым и смелым — о дисбате те, кто там выжили, отказывались даже рассказывать, а если настаивали, то плакали, как малые дети.
Путь мой к кафельному полу был долог и извилист.
Начинал я хорошо: когда нас, дрожащих от ледяной бани уродов, провели по казарме и под радостные крики «Вешайтесь, духи, вешайтесь сегодня! А то завтра выебем в жопу и повесим!» усадили в ленинской комнате писать диктант про устав караульной службы, я сказался неграмотным и стал рисовать в выданной для диктанта тетрадке человеческие рожи. Я всегда рисую рожи, если мне тоскливо и есть бумага и ручка. Когда я нарисовываю много рож, обязательно подходит кто-нибудь из-за спины и спрашивает: «А это кто?» «А хуй его знает», — отвечаю я всегда искренне.
Ну и тут, значит, сержант, который диктовал этот самый устав, вдруг внезапно отлучился покурить, и вместо него в ленинскую комнату вошли пять или шесть чечено-ингушских рядовых. «Встать!!!» — заорал из них самый главный (ефрейтор Исмаилов, через месяц получит пять лет дисбата). А мы, человек двадцать, ещё пока не знаем, мы вообще ещё ничего не знаем, кто тут, где, почему, имеет он право, не имеет, вроде бы тоже такой же как мы рядовой, но орёт уверенно, значит, наверное, имеет право, хуй его знает, какие тут порядки, так что, наверное, надо встать, а с другой стороны…
В общем, все встали.
«Сесть!!!» — заорал ефрейтор Исмаилов. Сели. Остальные воины пружинисто заняли ключевые позиции на случай бунта. Много-много лет спустя я очень хорошо понимал, как там оно было в Норд-Осте.
«Ты! — указал пальцем ефрейтор Исмаилов на самого левого человека в первом ряду. — Сюда!»
Встал человек, узбек или, может быть, туркмен. Вышел на середину. «Сел!!!» Сел. «Встал!!!» Встал. «Следующий!!!»
Ну, в общем, обычный обряд принуждения к покорности.
Я сидел в самом заднем ряду и думал: выебнусь или не выебнусь? Выебнусь или не выебнусь?
Тут очередь дошла до самого бодрого из всей нашей партии, на которого и была единственная надежда, что, может быть, хоть он скажет «а вот хуй вам». Но он чего — бодро вышел, бодро присел-встал и всё вполне эдак физкультурно. Помахал остальным ручкой, мол, пацаны, ничего страшного: сел-встал — и свободен.
И тут я понял, что пятый в очереди я. И за меня уже никто ничего не решит. Как же я это, блядь, ненавижу, когда решать. А я не буду садиться, и мне будет очень больно. Очень-очень. Я не крутой и не гордый, но просто не буду садиться, и всё.
И такая тоска.
Следующим, впрочем, был аульный казах Кокебасов. Он встал, вышел и неживым голосом сказал: «А я не сяду». Четыре сапога в одну секунду — два спереди по рёбрам, два сзади по почкам. Кокебасов рухнул, завыл и, размазывая слёзы, присел-встал.
Самый первый и самый главный урок: не уверен — не выёбывайся. Они чувствуют. Они не дураки, они звери, умные, между прочим.
«А это кто?» — спросили у меня за спиной. Я по-прежнему машинально рисовал в тетрадке рожи. «Да хуй его знает, — ответил я как всегда. — Так просто рожи».
Тут как раз на меня и указал палец: «Ты».
«Этот не пойдёт», — сказали у меня за спиной. «Ты!» Палец моментально сместился на моего соседа справа.
И я так до сих пор и не знаю: заплакал бы я, если бы вышел, или нет.
Деревня. станция
Наблюдал сегодня наяву сюжет, неоднократно использованный во множестве дряхлых анекдотов.
Приехал на велосипеде в магазин в соседнюю деревню, купил что нужно, сел на лавочку при магазинном крыльце выпить банку пива и неторопливо выкурить сигарету.
Тут, значит, подходят к магазину эдакие идиллические: молодая мама с младенцем в коляске, голубенькой с кружавчиками, и, видимо, сестра её младшая — лет тринадцати, в розовом платьице и белых носочках, мечта покойного гумберта-гумберта.
Оставили коляску, зашли в магазин, вышли через пять минут с огромнейшей упаковкой пива-балтика номер девять.
«Ну бля ухрюкаемся сёдня в пизду», — сказала молодая мамаша густым басом. «Заебись! Заебись!» — защебетала юная лолита.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

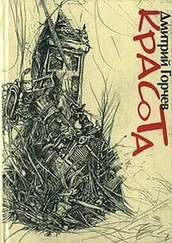


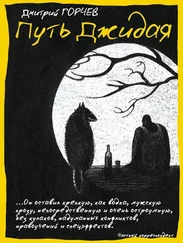




![Дмитрий Горчев - Придурки [litres]](/books/392787/dmitrij-gorchev-pridurki-litres-thumb.webp)

![Дмитрий Горчев - Деление на ноль [сборник]](/books/394330/dmitrij-gorchev-delenie-na-nol-sbornik-thumb.webp)
![Дмитрий Горчев - Понаехавшие [сборник]](/books/408329/dmitrij-gorchev-ponaehavshie-sbornik-thumb.webp)