Против усиления роли органов госбезопасности отреагировал и Осип Мандельштам, выступивший в защиту шести высокопоставленных банковских сотрудников, приговоренных к смертной казни. В день начала шахтинского процесса он отправил главному редактору «Правды», члену политбюро Николаю Бухарину свой поэтический сборник с надписью, смысл которой, по воспоминаниям жены, был следющий: «… в этой книге все протестует против того, что вы хотите делать». Как ни странно, протест возымел эффект: через некоторое время Бухарин сообщил Мандельштаму, что смертный приговор заменили заключением.
Маяковский не был ни оппортунистом, ни циником, но он был политически наивен и, в своем стремлении участвовать в построении нового и лучшего общества, проявлял слепоту, мешавшую увидеть, что в реальности подобные процессы противодействовали такому развитию; и, в отличие от Пастернака, он не отличался склонностью к философскому анализу. Но он не был кровожадным и где-то понимал то, что понимал Пастернак, — что насилие не выход.
Сложные психологические переживания той поры нашли отзвук в двух стихотворениях, написанных во время четырехдневного пребывания в Свердловске в январе 1928 года. «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру» повествует о рабочем, который получил от рабочего жилищного кооператива новую светлую квартиру с горячей и холодной водой и чувствует себя так, «как будто / пришел / к социализму в гости». Стихотворение воспевает советскую власть и ничем не отличается от сотен злободневных текстов, созданных Маяковским в эти годы. Но одновременно он написал стихотворение иного рода — «Император», которое хотя и публиковалось при жизни поэта, но долго оставалось известным только специалистам.
В Екатеринбурге (в 1924 году переименованном в Свердловск) летом 1918 года казнили царскую семью. Стихотворение начинается с воспоминания: «…то ли пасха, / то ли — / рождество», на московских улицах полно полицейских, мимо Маяковского проезжает ландо, в котором сидит «военный молодой / в холеной бороде», перед ним «четыре дочурки». В следующем фрагменте мы попадаем уже в Свердловск. Вместе с «председателем исполкома» Маяковский ищет шахту, в которую сброшены останки царской семьи. «Вселенную / снегом заволокло», единственное, что можно разглядеть, — это «следы / от брюха волков / по следу / диких козлов». Но в конце концов они находят искомое место: «… у корня, / под кедром, / дорога, / а в ней —/император зарыт». Здесь только «тучи / флагами плавают, /да в тучах / птичье вранье, / крикливое и одноглавое, / ругается воронье» — вместо, подразумевается, двуглавого орла. Картина страшна и впечатляюща. Что она изображает? Крах царизма? Разумеется. Но, может быть, поэт имел в виду и нечто иное? На это намекают строки из рабочей версии стихотворения: «Я голосую против. / <���…> Живые так можно в зверинец их / Промежду гиеной и волком. / И как ни крошечен толк от живых / от мертвого меньше толку. / Мы повернули истории бег. / Старье навсегда провожайте. / Коммунист и человек / Не может быть кровожаден». Здесь выражается запретная мысль, а именно: убийство царской семьи безнравственно — и безнравственно не вообще, а исходя из норм коммунистической морали.
Что это за «птичье вранье»? Вранье об убийстве? Вранье о том, что казнь императора и его «дочурок» оправданна? Слышим мы здесь голос Маяковского-отца, представлявшего, как падают на пол четыре девочки, подкошенные пулеметной очередью в подвале Ипатьевского дома летом 1918 года? Во время визита в Варшаву весной 1927-го Маяковский встречался с послом Советского Союза в Польше Петром Войковым, убитым в Варшаве в июне того же года. Войков был одним из организаторов убийства царской семьи, именно он достал кислоту, с помощью которой тела были обезображены. Рассказывал ли он Маяковскому о том, как проходила казнь? Указал ли он место, куда были сброшены тела?
Этого мы не знаем, но известно одно: звездными сибирскими ночами Маяковский, погрузившись в созерцательное состояние, помимо многозначного «Императора», написал следующие элегичные строки — посвятив их, надо полагать, Лили:
Уже второй должно быть ты легла
В ночи Млечпуть серебряной Окою
Я не спешу и молниями телеграмм
Мне незачем тебя будить и беспокоить
Катализатор Пастернак
В 1927–1928 годах масштабные преобразования происходили не только в политике, но и в области литературы. С начала двадцатых литературная жизнь характеризовалась борьбой между различными писательскими объединениями. Помимо политически ортодоксальных пролетарских писателей РАППа и эстетических догматиков Лефа существовал целый спектр мелких группировок и объединений — а также писатели, не принадлежавшие ни к одной группе. К последним относились «попутчики», основным защитником которых выступал критик Александр Воронский, главный редактор журнала «Красная новь». Когда в 1927 году Воронский, перейдя на сторону троцкистской оппозиции, лишился этого поста, «попутчики» получили новый рупор: журнал «Новый мир», главный редактор которого Вячеслав Полонский с презрением относился к экстремизму РАППа и Лефа, придерживался более «либеральной» линии и с уважением отзывался о классиках.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
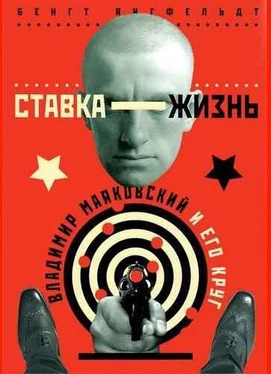


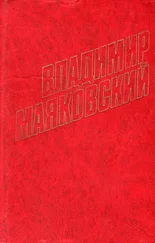
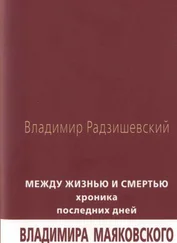
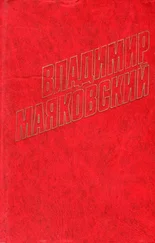

![Бенгт Янгфельдт - Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](/books/225431/bengt-yangfeldt-yazyk-est-bog-zametki-ob-iosife-b-thumb.webp)

