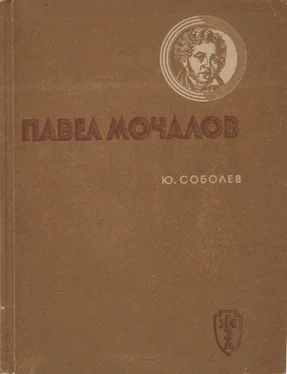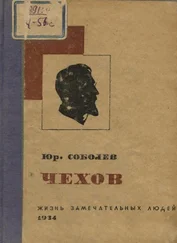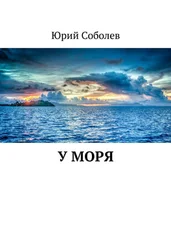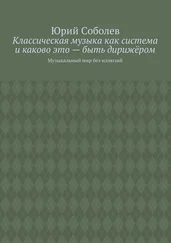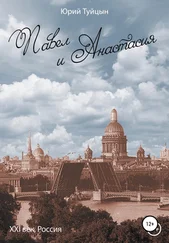Мочалов проводил эту сцену с такой глубокой правдивостью, что публика понимала: в этот роковой момент д'Обервиль не только страдает, узнав о черной измене друга, но и радуется, убедившись в невиновности жены. С страшной, почти сверхестественной силой поднимается он с кресла во весь рост, опирается руками о стол. Он еще пристальней смотрит в зеркало, потом поднимает над головой руки и мгновенно поворачивается к убийце. Глаза их встречаются. Убийца роняет стакан и спасается бегством. Страшный крик вырывается из груди графа. Сбежавшимся домашним д’Обервиль приказывает стать перед женою на колени и умирает спокойно, избавившись от тяготивших его сомнений.
Эта сцена производила необычайное впечатление. Публика была как бы под гипнотической властью Мочалова. И каждый) раз, когда потрясенный граф д’Обервиль приподнимался с кресла, поднималась со своих мест и публика. До такой могучей силы воздействия мог возвышаться Мочалов в свои «минуты»!
На этом можно прервать рассказ о ролях Мочалова в мелодраме. Даже на малосодержательном материале, далеком от реальной правды, актер все же мог создавать образы и необычайно верные, правдиво воплощавшие малейшие оттенки человеческих чувств, и необычайно выразительные по яркости воздействия на зрителя. В мелодраме, где все построено на эффекте, Мочалов уже давал образцы искусства реального. Потому-то Мочалов и стоял выше Леметра в последнем акте «Графини Клары д'Обервиль», — здесь он раскрывал элементы той человеческой правдивости, которая вряд ли была доступна французскому трагику — большому мастеру, техническая изощренность которого была самой яркой краской на его артистической палитре. В образы своих мелодраматических героев Мочалов вносил не только естественность и жизненность, «о и то психологическое содержание, которое станет одним из существенных элементов реализма именно русского театра, в чем и будет состоять коренное его отличие от школы западно-европейского мастерства вообще и французского в частности.
Остается сказать еще о комедийных ролях Мочалова. Комедия не была его призванием. В «Горе от ума» Мочалов играл Чацкого. Он очень смущался этой ролью. Ему мешало многое, и прежде всего, сознание своей «несветскости». Ведь Чацкий — представитель высшего московского общества.
Начальник репертуара петербургского Александринского театра А. И. Храповицкий, ворчливый старик, воспитанный на классике XVIII века, записывал свои театральные впечатления в дневнике, где можно найти такие презрительные строки: «Мочалов представлял какого-то трактирного лакея, и когда он сказал последние слова своей роли: «Карету мне, карету!» — раздался сильный аплодисмент, по которому публика как бы желала скорого его отъезда».
Вряд ли верна эта оценка. Храповицкий был судьей далеко не авторитетным. Затем, дело происходило в Петербурге, петербургская же публика вообще «е принимала Мочалова, — у нее был свой кумир — Каратыгин, актер, решительно во всем противоположный Мочалову.
Отзывы современников сходятся на одном: Мочалов в Чацком был интересен только в тех сценах, где можно раскрыть страстность грибоедовского героя. Режиссер Н. И. Куликов записал в своих любопытных воспоминаниях разговор, происшедший за кулисами Малого театра между Мочаловым и его постоянной партнершей по сцене — артисткой Львовой-Синецкой. Только что роздали роли в «Горе от ума».
— Знаете, сударыня, Мария Дмитриевна, мне назначили играть роль Чацкого, — говорит Мочалов.
— Знаю. Радуюсь и поздравляю.
— Чему, сударыня, радуетесь и с чем поздравляете?
— С величайшим успехом комедии, при таком исполнителе главного действующего лица.
— А знаете ли, что из всех моих ролей я ни за одну так не боялся, как за эту?
— Полноте! Вы шутите.
— Нет, не шучу. Вот, например, с самого первого действия я чувствую себя не в своем амплуа, не на своем месте: эта развязность Чацкого, игривая болтовня, смех, его язвительные сарказмы, блестящие остроты с неподдельными веселостью и шуткой, — да я никогда подобных ролей не играл и не умею играть!
Синецкая успокаивает его, говоря, что это только одно первое действие комедии» где он если и не сла-дит с светской развязностью и изысканной веселостью Чацкого, то во всяком случае стихи передаст и умно и прекрасно.
— Зато, начиная со второго действия, по ходу пьесы, характер Чацкого, его серьезные, обличающие речи принимают другое направление, а это лучше вас никто не передаст, — говорит Синецкая.
Читать дальше