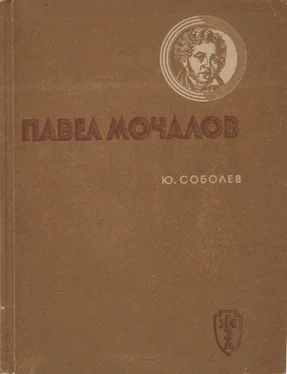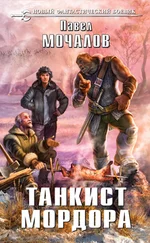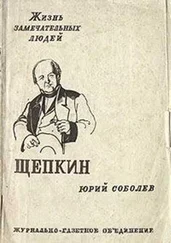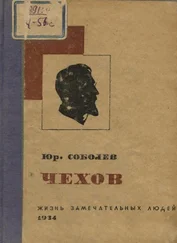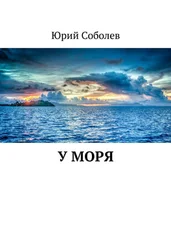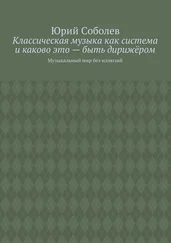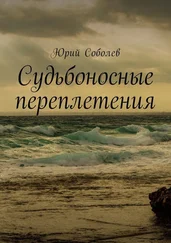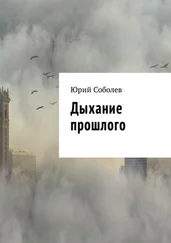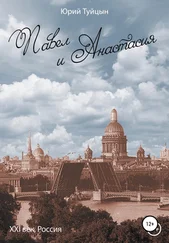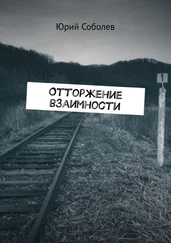«Он был неоспоримо прав», — неожиданно заключает Аксаков, не замечая противоречий в собственных суждениях о Мочалаве. Однако Аксаков продолжал держаться прежней точки зрения на Мочалова. По Аксакову, Мочалов «был не довольно умен, не получил никакого образования, никогда не был в хорошем обществе, дичился и бегал его».
Откуда это умозаключение — неизвестно. Из всего, что мы знаем о Мочалове, по его высказываниям, переписке, его статьям (мы прочтем их в этой книге), о которых никто из аксаковского круга и не догадывался, а главное, по тому верному и глубокому раскрытию образов Шекспира, о котором так пламенно говорил Белинский, никак нельзя отказать Мочалову в уме. Насчет образования — тоже сказано слишком сильно. Мочалов, правда, получил неполное образование, но он был достаточно развит и «начитан, хотя читал, конечно, без системы. Те, кто хотели помочь ему в этом, только кололи и раздражали самолюбие Мочалова. Вот потому-то он никогда и не бывал в хорошем обществе, дичился и бегал его.
Он, действительно, боялся Шаховского. Боялся его менторства, его педагогики, его назойливого учительства. Приведем занятный анекдот по этому поводу, рассказанный все тем же Аксаковым, смакующим «забавные» случаи из жизни Мочалова. Шла однажды комедия Шаховского «Пустодомы», с Мочаловым в главной роли. Шаховской опоздал к началу спектакля. Ему сказали, что Мочалов играет сегодня бесподобно и необходимо сделать так, чтобы он не догадался о присутствии автора.
Шаховской сел так, что его не могли видеть со сцены. Мочалов был неподражаемо хорош, удостоверяет Аксаков: «Какая натура, какая правда, простота, тонкость в малейших изгибах, в малейших оттенках человеческой речи, человеческих ощущений. Мы были просто поражены совершенством его игры. Шаховской не показывался и не появлялся во время антрактов за кулисами. Он только бесновался от восторга и умилялся до слез. По окончании пьесы все поспешили в уборную, где одевался Мочалов, а восхищенный автор едва не бросился перед ним на колени. Шаховской обнимал, целовал в голову удивленного Мочалова и дрожащим голосом говорил: «Тальма! Какой Тальма! Тальма в слуги тебе не годится. Ты был сегодня бог!»
Через несколько дней после этого спектакля приехал из Петербурга какой-то знаток и любитель театра. Приезжий, приятель Шаховского, сказал что-то неуважительное о таланте Мочалова. Шаховской вспыхнул, превознес Мочалова и повез гостя смотреть «Пустодомы». Что же произошло? Мочалова предупредили, что его будет смотреть значительная особа из Петербурга и что Шаховской хочет похвастать его игрой. В этот спектакль Мочалов был невыносимо дурен. Шаховской бесился. Конфуз был полный.
Но кто же виноват в этом конфузе? Мочалов? Нет, восторженный Шаховской. Мочалов не мог играть хорошо, смущенный именно тем, что его приехали смотреть, что им хвастали. Такое ощущение знакомо любому актеру. Шаховской и смакующий этот анекдот Аксаков проявили бестактность, лишний раз доказав, что они не понимают существа актерского творчества. Шаховской вел себя, как барин. В ту пору, действительно, барин хвастался принадлежащим ему «домашним» крепостным музыкантом, архитектором, поэтом, актером, как редкой вещью, как драгоценностью из коллекции. Точно такое же крепостническое отношение раскрывается в поведении Шаховского — мецената, покровителя, учителя «придворных актеров». Ими тоже можно было хвастать, они были почти-что «домашние», почти-что крепостные. Если вспомнить аксаковские Суждения, то разве не выступают кричащие противоречия: играл-то эту роль Мочалов действительно замечательно. Ведь восклицает же Аксаков: «Какая натура! Какая правда, простота, тонкость в малейших изгибах, в малейших оттенках человеческих ощущений!» Значит, Мочалов владел всем этим, значит, был он прост, естественен, правдив, умел раскрывать малейшие человеческие ощущения.
Но на каком материале приходилось ему проявлять эти замечательные черты своего дарования? Вспомним, что это было еще до шекспировских ролей. Мочаловский гений питался еще второсортными комедиями Шаховского и душу раздирающими мелодрамами Коцебу и Дюканжа. Остановимся на одной роли Мочалова из бесчисленных мелодрам Коцебу, создавшего своеобразный жанр, получивший у нас название «коцебятина».
Биография этого плодовитого писателя была несколько необычной. Его имя начинает мелькать в документах с 1781 года, когда он, молодой начинающий веймарский адвокат, двадцатилетним юношей появляется в Петербурге в качестве секретаря генерала Бауэра. Он женился на дочери генерала русской армии Эссена и стал быстро делать карьеру в Остзейском крае, занимаясь на досуге сочинительством романов, од и мелодрам. В 1784 году появляется его знаменитая драма «Ненависть к людям и раскаяние», за ней еще двадцать других. Жизнь его начинает приобретать авантюрный характер. Он — директор театра в Вене, директор немецкого театра в Петербурге, а между этими двумя директорствами успел оказаться арестантом и сосланным в Сибирь по приказу императора Павла. Тот же Павел, восхищенный пьесой «Лейб-кучер Петра Великого», вернул его и назначил директором немецкого театра. Затем Коцебу — издатель журнала в Берлине, эмигрант в Эстонии, русский консул в Кенигсберге и, наконец, один из отвратительнейших и активнейших гонителей прогрессивных течений «молодой Германии». Его имя ненавистно молодежи. Кинжал студента Занда, воспетый Пушкиным, завершает эту биографию драматурга, написавшего девяносто восемь произведений и служившего тайным агентом двух правительств.
Читать дальше