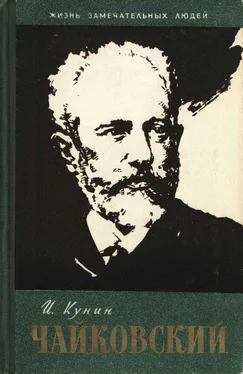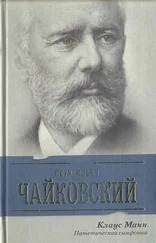Каменка — некогда имение выдающегося декабриста Василия Львовича Давыдова, место сборищ «умов оригинальных, людей известных в нашей России» (по определению Пушкина, гостившего там в 1820–1821 годах) — теперь, покорная общему закону, переменилась неузнаваемо. О славном прошлом напоминала, пожалуй, только Александра Ивановна Давыдова, вдова декабриста, разделившая с ним сибирскую ссылку. Из скромной доли (она была дочерью мелкого провинциального чиновника) судьба подняла ее высоко, кинула затем в читинскую и красноярскую глушь и, не сломив, не искалечив нравственно, только закалив, вернула тридцать лет спустя на старое пепелище. Управлял имением дельный хозяин и прекрасный семьянин Лев Васильевич Давыдов, один из младших сыновей Василия Львовича и муж Александры Ильиничны, урожденной Чайковской. Здесь, среди быстро увеличивающейся семьи, целого племени племянниц и племянников, Петр Ильич отогревал душу и, легко сбрасывая бремя забот, затевал то игры в лесу, то театральные представления, в которых выступал суфлером, режиссером и аккомпаниатором. Здесь благоговейно слушал он неторопливые рассказы Александры Ивановны о временах Пушкина и Пестеля, о катастрофе, отправившей в рудники и казематы добрую половину мыслящей России, о декабристах на поселении и о красноярском доме Давыдовых, где находили теплый приют и материнское попечение все проезжавшие через город товарищи по борьбе и несчастью. Здесь Чайковский каждое лето в течение многих годов соприкасался и роднился с ранее незнакомым ему украинским простым людом, его певучей речью и поэтической, западающей в душу песнью.
Украинская песня, близко родственная русской, в то же время заметно отличается от нее большей открытостью чувства, мягкостью лиризма, иным, более светлым и чувственным колоритом. Петр Ильич не искал в украинской песне величавых отзвуков седой старины. Он слушал и любил ее такой, как она поется в быту, со всеми позднейшими напластованиями, со всеми отпечатками жизни. А песни по целым дням слышались из разных уголков каменской усадьбы. Пела прачка, пели работницы в саду, девушки на кухне. Теплыми вечерами молодежь собиралась в кружок на черном дворе, и далеко неслись тогда бойкие звуки гопака и дробный, крепкий перестук подкованных чоботов, а то и переливчатый, водянисто-прозрачный звон бандуры и торжественный речитатив захожего слепца-бандуриста.
Русская песня впиталась в сознание Чайковского еще с первыми младенческими впечатлениями, и когда его лирическое волнение разрешалось в звуках, эти звуки слагались в русские по своему складу мелодии. Иное дело песня украинская, близкая, но не своя. В ней открылся композитору источник менее личных эмоций, через нее он живее ощущал полнокровное веселье без щемящей сердце тоски, раздумье без затаенной горечи.
Вот почему в поисках менее напряженно-драматических сюжетов и более повседневного, житейского музыкального материала украинская песня оказалась насущно-нужной композитору. Впервые это обнаружилось во Второй симфонии.
Симфония эта, которую Кашкин не случайно называл «малороссийской», носит, в отличие от Первой, несравненно более описательный характер [81] Речь здесь идет о первой редакции симфонии, подвергшейся значительной переделке в 1879–1880 годах.
. Разумеется, лирическая струя сильна и здесь (особенно в первой части), тем не менее объективные образы преобладают. Эпический склад властно дает себя знать в той же первой части, где над лирическими эпизодами господствует широкая, торжественно-печальная тема песни «Вниз по матушке по Волге» (в чудесном украинском варианте напева). Во второй части, сопоставляя причудливый, чуть игрушечный марш, позаимствованный из «Ундины», с обработанной в украинском духе русской песней «Пряди, моя пряха» [82] Отмечено Г. Тюменевой в ее статье «Чайковский и украинская народная песня» (сборник «Из истории русско-украинских музыкальных связей», М., 1956).
, в третьей, но, конечно, полнее и сильнее всего в финале, основанном на шуточной украинской песне «Журавель», композитор вдохновляется образами, картинами, явлениями окружающего мира. Даже в оркестровке отдельных эпизодов Второй симфонии Чайковский мастерски воспроизводит характерное звучание народных инструментов.
Близость симфонии к народному быту и народному исполнительству живо ощущал сам композитор. Сообщая Модесту об успехе первого исполнения, он шутливо добавлял: «Честь этого успеха я приписываю не себе, а настоящему композитору означенного произведения — Петру Герасимовичу [83] Буфетчику Давыдовых.
, который, в то время как я сочинял и наигрывал «Журавля», постоянно подходил и подпевал мне: «Таки, таки, дыбе, таки, таки щипле». Но бойкий, насмешливый мотив «Журавля» получил в симфонической обработке Чайковского грандиозный характер, стал образом простодушно-грубоватого, но великолепного по своему мощному одушевлению народного веселья. Кашкин писал, что последняя часть Второй симфонии «представляет истинно гениальный взмах высокого таланта», отмечая «чудесные вариации на главную тему» и «удивительный эффект басов, идущих исполинскими тяжелыми шагами». Он смело сопоставлял финал симфонии с «Камаринской» Глинки, находя близкое родство и в то же время огромную разницу между обоими композиторами: «в тонком изяществе склада гениальной фантазии Глинка все-таки недосягаем, — писал Кашкин, — но в шири и мощи композиции берет верх Чайковский».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу