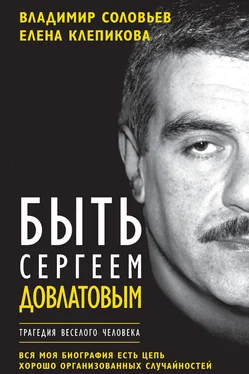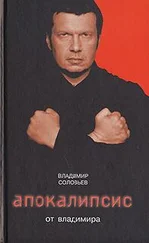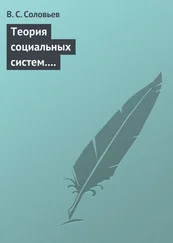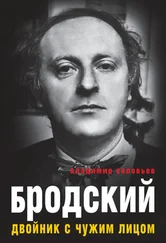***
Что еще мне тогда хотелось сказать о Бродском? Точнее — самому Бродскому. Как много раз бывало в Ленинграде, и он выслушивал — однажды целую ночь напролет в его комнате, с Соловьевым и Кушнером, — внимательно и охотно.
А вот что.
Стихи он писал в России. В Америке — обеспечивал им гениальное авторство, мировую славу, нобелевский статус. Иными словами, в России закончилась его поэтическая судьба. За границей он стал судьбу делать сам.
Канонизировался в классики. Взращивал у себя на Мортон-стрит лавровое деревце на венок от Нобеля. Сооружал пьедесталы для памятников себе. Страдал неодолимой статуйностью. Дал понять современникам и потомкам, что мрамор предпочтительнее бронзы. Эстетичней и долговечней. Это когда побывал в Риме и прикинул на себя статую римского императора. Тотчас признался в стихах, что чувствует мрамор в жилах.
Все это ужасно смешно.
«Я этого не слышал! — выкрикивал Сережа с наигранным ужасом. — Я ухожу. Я уже ушел!»
Вот так мы с ним однажды, незадолго до его смерти, поговорили.
Насчет смерти. Несмотря на грандиозные запои, из которых выползал со все большими потерями для здоровья, Сережа о смерти не помышлял. Просто не держал в уме. Смерть не входила в круг его интересов, размышлений и планов. Исключая последние три месяца жизни. Он мог говорить, что из следующего запоя не выкарабкается, он собирал и пристраивал свой литературный архив, но в глубине души и до мозга костей в смерть для себя не верил. Или запретил ее для себя даже в предположении. Часто прикидывал старость. Заботился ее обеспечить. К смерти, к мертвому у него была резко эстетическая неприязнь. Мертвого — друга, приятеля, родственника — он сразу отметал. Как-то глумливо самоутверждался на смерти ровесников. Чужая смерть давала ему допинг на жизнь.
Сережа был фанатом — и в работе, и в жизни — настоящего протяженного. Отсюда — выпуклый, животрепещущий сюр его рассказов. В жизнь это вносило привкус сиюминутной вечности. Довлатов принадлежал к числу тех жизнеодержимых людей, которые, взглянув на старинную картину, гравюру или фотографию с людьми, тут же воскликнут: все — мертвецы.
Интенсивно, в упор переживая настоящее, Сережа не интересовался будущим временем. Говорил, что будущее для него — это завтра, в крайнем случае — послезавтра. Дальше не заглядывал. Прошедшее его не угрызало — он отправлялся туда исключительно по писательской нужде. Был равнодушен к памяти — она его не жгла. Он также был не большой охотник кота назад прогуливать. В пережитое наведовался только по делу, за конкретностью, которой был фанатик.
Раз заходит ко мне Сережа с необычным для него предложением — вместе вспомнить старое. Не из сентиментальности, а для работы. Что-то заело в его фактографе из 50-х годов. Давняя конкретность ускользала. Вот он и предложил прогуляться по словарю вспять — до вещного мира нашего детства.
Были извлечены из 35-летней могилы чернильницы-непроливашки в школьных партах, промокашки, вставочки и лучшие номерные перья. Обдирочный хлеб, толокно, грушевый крюшон и сливовый «Спотыкач» (Сережа не вспомнил), песочное кольцо, слойки и груша бере зимняя Мичурина. Среди прочего — чулки фильдекосовые и фильдеперсовые, трикотажные кальсоны с начесом и с гульфиком — в бежевых ходили по квартире и принимали гостей. Как в лагере выкладывали линейку еловыми шишками. Вечерние рыдания пионерского горна: спаать, спаать по па-лааа-там.
И тут моя память переплюнула Сережину. Забежав по привычке в кондитерский магазин, я там уцепила — среди киевской помадки, подушечек в сахаре, всевозможных тянучек, ирисок и сосулек, в соседстве с жестянками монпасье, на самом дальнем краю детства, — крохотный, сработанный под спичечный коробок. Драже «Октябрята» — белые и розовые, со сладкой водичкой внутри и тусклой этикеткой хохочущих октябрят. Кажется, это был первый послевоенный выпуск карамели с жидким наполнением. Во всяком случае, тогда открытие этих драже было для меня сладким откровением. Как позднее — от природы, книги или музыки. Сережа «Октябрят» не помнил, да и не знал. Но был дико уязвлен — он забыл само слово «драже».
Свой писательский эгоцентризм Довлатов постепенно — не имея долгое время печатного исхода — развил до истовости, до чистого маньячества. Он считал, например, что счастливо ограничен для своего единственного призвания. Как пчела, он обрабатывал только те цветы, с которых мог собрать продуктивный — в свои рассказы — мед. Остальные цветы на пестром лугу жизни он игнорировал. То есть поначалу он, пестуя в себе писателя, по-рахметовски давил иные, посторонние главному делу, интересы и пристрастия, а затем уже и не имел их. И, освободившись от лишнего груза, счел себя идеальным инструментом писательства. На самом деле он был прикован к своей мечте, как колодник к цепям. С той разницей, что свои цепи он любил и лелеял.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу