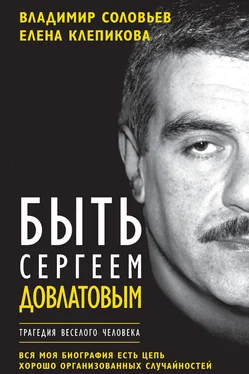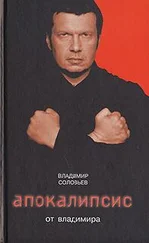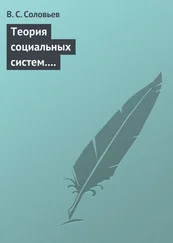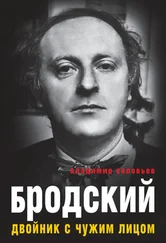И так как они не признали его,
Решил написать он
Себя самого.
И вышла картина на свет изо тьмы…
И все закричали ему:
— Это мы!
За месяц до смерти Сережа позвонил мне, рассказал о спорах на радио «Свобода» о моем «Романе с эпиграфами», который, с легкой руки московского издателя, стал теперь «Тремя евреями», и напрямик спросил:
— Если не хотите дарить, скажите — я сам куплю.
Он зашел за экземпляром романа, в издании которого принимал косвенное участие: дал дельный совет издательнице по дизайну обложки и увидел сигнальный экземпляр раньше автора — когда явился в нью-йоркское издательство Word по поводу своих собственных книг, до которых так и не дожил: его «Филиал» и «Записные книжки» вышли посмертно.
Так случилось, что мои «Три еврея» стали последней из прочитанных им книг. Уже посмертно до меня стали доходить его отзывы. Сначала от издательницы Ларисы Шенкер — что Сережа прочел книгу залпом. Потом от его вдовы. «К сожалению, всё правда», — сказал Сережа, дочитав роман. Лена Довлатова повторила Сережину формулу в двухчасовом радиошоу о «Трех евреях» на «Народной волне» (Нью-Йорк). Да — к сожалению. Я бы тоже предпочел, чтобы в Ленинграде всё сложилось совсем, совсем иначе. Тогда, правда, и никаких «Трех евреев» не было бы — мой шедевр, как считают многие. И из России никто бы не уехал: ни Бродский, ни Довлатов, ни мы с Леной. Впрочем, я уже говорил об этом.
А в тот день Сережа засиделся. Стояла августовская жара, он пришел прямо из парикмахерской и панамки не снимал — считал, что стрижка оглупляет. Нас он застал за предотъездными хлопотами — мы готовились к нашему привычному в это тропическое в Нью-Йорке время броску на север.
— Вы можете себе позволить отдых? — изумился он. — Я не могу.
И в самом деле — не мог. Жил на полную катушку и, что называется, сгорел, даже если сделать поправку на традиционную русскую болезнь, которая свела в могилу Высоцкого, Шукшина, Юрия Казакова, Венечку Ерофеева. Сердце не выдерживает такой нагрузки, а Довлатов расходовался до упора, что бы ни делал — писал, пил, любил, ненавидел, да хоть гостей из России принимал, — весь выкладывался. Он себя не щадил, но и другие его не щадили, и, сгибаясь под тяжестью крупных и мелких дел, он неотвратимо шел к своему концу. Этого самого удачливого посмертно русского прозаика всю жизнь преследовало чувство неудачи, и он сам себя называл «озлобленным неудачником». И уходил он из жизни, окончательно в ней запутавшись.
Его раздражительность и злость отчасти связаны с его болезнью, он сам объяснял их депрессухой и насильственной трезвостью, мраком души и даже помрачением рассудка. Но не является ли депрессия адекватной реакцией на жизнь? А алкоголизм? Я понимал всю бесполезность разговоров с ним о нем самом. Он однажды сказал:
— Вы хотите мне прочесть лекцию о вреде алкоголизма? Кто начал пить, тот будет пить.
Ему была близка литература, восходящая через сотни авторских поколений к историям, рассказанным у неандертальских костров, за которые рассказчикам позволяли не трудиться и не воевать, — его собственное сравнение из неопубликованного письма. Увы, в отличие от неандертальских бардов, Довлатову до конца своих дней пришлось трудиться и воевать, чтобы заработать на хлеб насущный, и его рассказы, публикуемые в «Нью-Йоркере» и издаваемые на нескольких языках, не приносили ему достаточного дохода. Кстати, гонорар от «Нью-Йоркера» — три тысячи долларов (по-разному, поправляет меня Лена Довлатова) — он делил пополам с переводчицей Аней Фридман. Таков был уговор — Аня переводила бесплатно, на свой страх и риск.
Сережа, конечно, лукавил, называя себя литературным середнячком. Не стоит принимать его слова на веру. Скромность паче гордости. На самом деле знал себе цену. В этом тайна Довлатова. Однако его самооценка все же ближе к истине и к будущему месту в литературе, чем нынешний китчевый образ. Увы, нам свойственно недо— либо, наоборот, переоценивать своих современников. На долю Довлатова выпало и то, и другое. Ну да, лицом к лицу лица не увидать.
Мое бешенство вызвано как раз тем, что я-то претендую на сущую ерунду. Хочу издавать книжки для широкой публики, написанные старательно и откровенно, а мне приходится корпеть над сценариями. Я думаю, идти к себе на какой-нибудь третий этаж лучше снизу — не с чердака, а из подвала. Это гарантирует большую точность оценок.
Я написал трагически много — под стать моему весу. На ощупь — больше Гоголя. У меня есть эпопея с красивым названием «Один на ринге». Вещь килограмма на полтора. 18 листов! Семь повестей и около ста рассказов. О качестве не скажу, вид — фундаментальный. Это я к тому, что не бездельник и не денди.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу