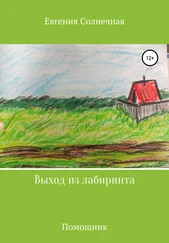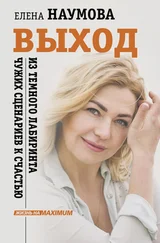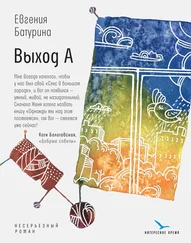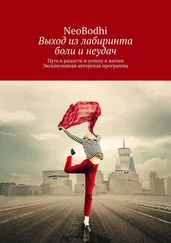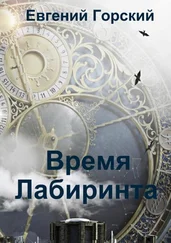Если же отступить на два с лишним века назад, вспомнив «непоследовательного» социалиста Жан-Жака: «Не терпите ни богачей, ни нищих, из одних рождаются сторонники тирании, из других — тираны» («Сблизьте между собой крайние ступени, пока это возможно»)… А если еще дальше к все тому же первому из «сораспявшихся», от которого пошла утопия компромисса: «Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся».
Притчи эти тем современны, что адресуются нравственности серого вещества, наступая на мозоль услужливости, с какой гибкий ум спешит навстречу весьма не высокого свойства вожделениям и уловкам. Так слава тем притчам! Так в дело те притчи, не разменивая их на то, что не-Дело… Но ведь, с другой стороны, их, эти притчи, не только в компьютер не заложишь, но и не перекантуешь в пропись поступка, которому как не быть однозначным? «Лучшим воспользуйся» — мудрость вроде бы невеликая, и, конечно же, с ней охотно согласятся наши столичные знакомцы, мужья и жены науки (всмотришься — крестик на груди у тех, кто твердо держится практичнейшего правила: лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным…). А тут альтернативою не меньше и не больше: в силах стать свободным, пользуйся этим, но помни, что можешь и рабом призваться, в рабах застрять.
«Не смущайся». Как понимать сие — и не в 33-м нашей эры или слегка позже, а в 1983-м? Стоит ли всерьез принимать за выбор: по доброй воле — рабом?
Скажем — рабом равенства…Зная, что равенство неосуществимо целиком — нигде и никогда. Зная, что ему не осуществиться частью, если не ставить целью: утвердить полностью, повсюдно и навсегда. Зная, что среди препятствий на пути его — развитие, богатства мысли и души. Зная, что и развитие ущербно и может удушить себя богатствами мысли и души (да, и души также!), если не сделает своим смыслом и коррективом — равенство. Думая, что так этому и быть, поскольку было: развитию обороняться от равенства, равенству же — атаковать развитие, а в итоге заново обрывы развития, утраты смысла, новые спазмы рабства…
Ну, а если не так? Если было, но не будет? Ибо — совокупились непредвиденным, сумасшедшим образом прежняя кровь и нынешние орудия изничтожения. Ибо чересчур велик теперь запрос у равенства и чересчур запуталось в собственных несогласиях и заботах развитие. Ибо — вперед выступает и там и здесь слабость, оттого и прибегающая к силе, и не как к последнему средству, а мня, что именно для того, чтобы не было нужды в последнем… Что же делать нам, Евгений Александрович? Как распорядиться своим нутром, ежели нутру-то (без ложной скромности) — не только космополитические гены, но и самовыработка, доросшая до естества, до привычки, которую изменить равносильно тому, чтоб перестать быть собой?
Вон из рабов — или как раз пришел час, чтобы призваться в добровольную несвободу?
Несвободу от всех — несвободу от себя…
Этот вопрос наш с Евгением Александровичем, хотя редакция его моя. Мы шли к нему как бы с разных сторон: я — занимаясь историей, озабоченный проблемой ее «конца», возвращающего всех к ее «началам», он — обобщая и освежая мысли и опыты, обретенные разными цивилизациями в утверждении и развитии прав человека. Такова была тема его большой работы, оставшейся незаконченной. Он искал форму, соответствующую нетривиальному замыслу: он хотел, чтобы в его работе зазвучали разные голоса — живые и мертвые, давние и даже древние, но к концу нашего века заново ожившие, поражающие проницательностью, пониманием того, что нужно человеку и что ему мешает, что его коверкает — извне и изнутри его самого.
Наш последний разговор на темы его труда был уже в больнице. Слабеющий, с явными приметами страдания, он, несмотря на это, готовился продолжить работу, внося новые оттенки в центральный вопрос: о жизнепоказанности прав, оберегающих достоинство и суверенность каждого человека в его священной частной жизни, как и в неотделимых от нее связях с другими людьми, в пределе — со всеми, кто населяет Землю… На глазах его, человека, родившегося в самом конце прошлого столетия, произошло множество разительных перемен, но одну из них он особенно выделял как наиболее близкую его духовному миру и интересам. Я бы сказал — кровную по связям с пережитым им самим и им защищенным в поединке с жестокостью и с той ограниченностью, какая сама по себе неумолимо производит и мучителей и мучеников. Это близкое ему и новое, если обозначить одной скупой строчкой, будет звучать так: непременность в превращении международного права во внутреннее, всеобщих элементарных запретов истязать и унижать человека в открытое поприще национального, государственного и личностного развития, заведомо несводимого к одной норме, к единственному постулату.
Читать дальше
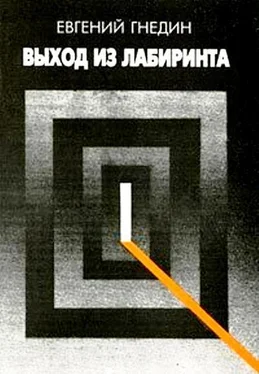
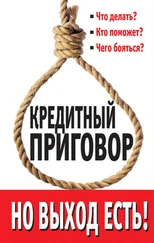
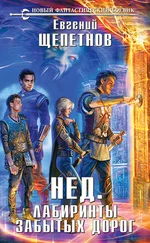

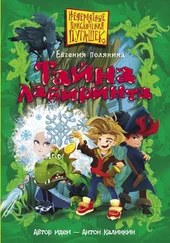
![Евгения Батурина - Выход А [litres]](/books/394623/evgeniya-baturina-vyhod-a-litres-thumb.webp)