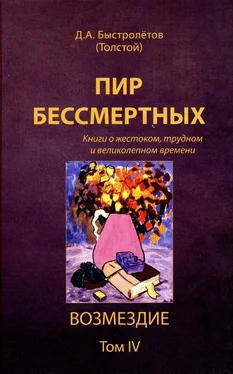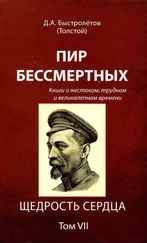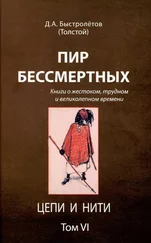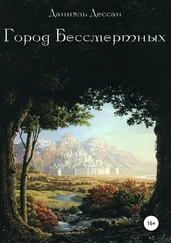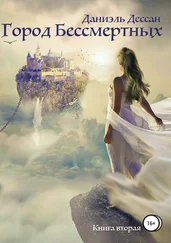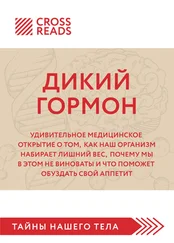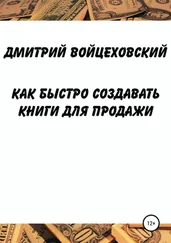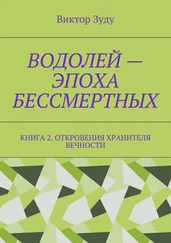Я пережил Сталина, переживу Хрущёва! Я уповаю не на разум нашего руководства, а на его инстинкт самосохранения…
Я рассказал о своём доме и о людях, с которыми я живу. Хочу подвести итоги.
Планировка района плохая, но лучшего, пожалуй, и ожидать было нельзя: страна изолирована от мировой культуры системой выездных виз. Самый тяжёлый грех планировщиков — плотная застройка без места, оставленного в запас на будущее. С ростом материальной культуры придётся сносить хорошие дома под школы, магазины, гаражи… Пока уже люди выселяются из нижних этажей, но их не хватит, и очередь дойдёт до целых домов.
Уровень материальной культуры далеко опередил рост духовного развития. Метро, автобусные и троллейбусные линии, тридцатиэтажные дома, подземные переходы и эстакады — всё это растёт быстро, изменяя лик Москвы чуть ли не из месяца в месяц.
Но замызганный и затурканный советский человек, безмерно перегруженный заботами и устающий от бессмысленной траты сил больше, чем от полезной работы, он духовно растёт только на страницах газет: его рост тормозится неустроенностью жизни, грандиозным беспорядком, прилежно и настойчиво насаждаемым сверху самым высоким руководством страной.
У нас мало настоящих закоренелых преступников, среди восьми тысяч жителей нашего дома — ни одного. Но мелких нарушителей, мешающих честным труженикам спокойно жизнь, — уйма. Жить, работать и творить в таких условиях необыкновенно тяжело и, главное, неплодотворно. Слишком много в нашей общественной жизни тратится сил на преодоление внутреннего трения.
Нет порядка в доме, городе, стране!
Сладкие обещания не выполняются, благородные призывы оказываются обманом, люди устали от несоответствия между тем, что пишется, и тем, что делается вокруг.
Советские славные труженики хотят так мало — здравого смысла, честности и порядка. Хотят уважения к себе.
Дождутся ли они их?
Глава 6. Единоборство двух правд
В конце бурного и тягостного правления Н.С. Хрущёва, после его катастрофического провала с разоблачением культа личности Сталина, неудачной попытки создать свой собственный культ, грандиозного тупика в экономической политике и вынужденного и поэтому резкого поворота назад, к сталинизму, из уст в уста пошёл примечательный анекдот: Сталин якобы оставил своему наследнику два запечатанных конверта на случай своей смерти с надписями: «Вскрыть, если станет трудновато» и «Вскрыть, если станет совсем плохо».
Столкновения с другими претендентами на трон заставили Хрущёва вскрыть первый пакет. Там на листе бумаги была написана фраза: «Вали всё на меня». Наследник так и сделал, но трудности, естественно, только возросли: он взялся за дело, к которому был неспособен. Не видя выхода, он вскрыл второй пакет и прочёл: «Делай, как делал я». Наследник опять послушался совета, внеся только некоторую поправку на недоверчивое время и свой слабый авторитет. Поэтому быстро, как солнечный зайчик, скользнул по поверхности советской жизни коротенький период политической весны начала шестидесятых годов.
Осень шестьдесят четвёртого года — это большая осень заката хрущёвщины, когда отшумели скандалы с оппозиционными поэтами и художниками-формалистами на выставке в Манеже. Как разъярённый кабан, на удивление и возмущение зрителям, Хрущёв выставил клыки и бросился на инакомыслящих, никого не поражая насмерть и покрывая себя позором. В это весьма не подходящее для идеологических диспутов время в Литературной консультации Союза писателей СССР в Москве вспыхнул спор из-за моих записок: это было типично — ведь в эпоху закручивания гаек произведения искусств всегда и везде являются горючим материалом, и вокруг, казалось бы, самых невинных книг разгораются ожесточённые прения, при которых все спорящие прекрасно понимают, о чём именно ведётся спор, и сквозь словесную ширму казённых формулировок говорят то, что действительно думают, — это единственно возможная форма спора при диктатуре: так было в России не раз и не два, это термометр, показывающий лихорадочное состояние страны.
Итак, поводом для спора явилась десятая книга моих записок «Человечность», самая благонамеренная из всех. Один из споривших, старший консультант В. Боборыкин, судил о ней с моих позиций, то есть как о десятой и не последней книге воспоминаний о действительных событиях и лицах. Он высказывался в общем положительно. Другой критик, заведующий литературной консультацией И. Сеньков, намеренно искажая мою позицию и принимая отдельный кусок общего как самостоятельное литературное произведение, как повесть с выдуманными ситуациями и персонажами, разгромил её по всем правилам советской недобросовестной критики.
Читать дальше